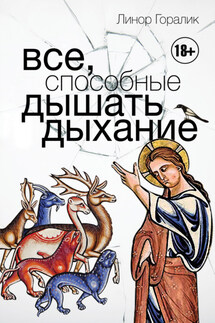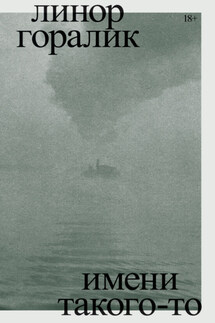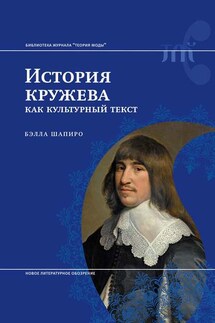Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - страница 3
Все эти причины в совокупности привели к распаду общего «языкового» пространства костюма – а за этим у многих сформировались недоверие к любым костюмным кодам, общая неуверенность в том, что они адекватно считывают «высказывания» в одежде, совершаемые окружающими людьми, и страх перед тем, что окружающие не поймут их собственные «высказывания» (зачастую остро не устраивающие самих «носителей» костюмных кодов в силу ограниченности доступных выразительных средств – и ограниченности средств финансовых).
Мне не удалось найти более или менее подробных описаний того, как конкретно решали «проблемы коммуникации» строители этой семиотической «вавилонской башни» и, главное, как восстанавливалось взаимное понимание в первичный период исчезновения общего языка. Исчезновение же единого костюмного кода на позднесоветском пространстве запустило, на мой взгляд, долгосрочный (в некоторых аспектах – не завершенный и по сей день) процесс создания принципиально нового вестиментарного языка. Однако в первое время – в качестве реакции на распад – был быстро, но конвульсивно, с заметными социальными усилиями выработан необходимый для переходного времени «новояз», в некоторых отношениях очень редуцированный по сравнению с советскими временами, а в других, напротив, намного более богатый значениями.
Одним из методов сохранения коммуникаций в нарушенном языке костюма стала, по-видимому, острая зависимость от немногих сохранившихся общих «слов», выдвижение их на первый план, обострение и расширение их смысла. Например, таким важнейшим «словом» стало понятие «вкус» (чаще всего воспоминание моих респондентов о том, как в 1990 году в сознании людей активизировалась идея «вкуса», сопровождается тем, что и само слово «вкус» становится в ответах максимально «нагруженным»). Параметр «вкуса» можно было сохранить в костюме даже при крайней бедности и чудовищном дефиците. «Вкус в одежде» считывался как общее «послание», был сравнительно универсален и мог защитить от агрессии «новояза» тех, у кого не было возможности следовать моде. Он же был и способом самоограничения для тех, кто имел возможность пользоваться новыми выразительными средствами, но не понимал, как применять их на практике: «Ангорские пушистые свитера с люрексом и стразами на груди, которые были тогда просто писком и шиком, у нас дома считались моветоном»; «…я отбрыкивалась от лосин, от свитеров с люрексом и ободков на голову»; «…очень благодарна отцу за его хороший вкус. В моем гардеробе не было ничего вульгарного никогда…» (респондентку, в то время – подростка, «одевал» выезжавший за границу отец). Другим примером ужесточения смыслов немногих сохранившихся «слов» может служить лексикон «богатства» и «бедности», хотя и здесь случались ситуации сбоя, нарушения коммуникаций в силу того, что одежда и предметы косметики приобретались по случаю: «…морда в „Ланкоме“, а стрелки на колготках клеем замазаны». Ярчайший пример интерпретации сигнала «богатство/бедность» – следующая ситуация (респондентка и в 1990 году могла позволить себе одеваться по своему вкусу и выбору): «Как-то раз всей этой кооперативной тусовкой поехали в лес на турбазу <…> Было холодно и очевидно грязно, но обещали полный гламур и обманули, конечно, так что я, одевшись для леса, чувствовала себя в самый раз. <…> Зато были там две парикмахерши, прихваченные в последний момент для четности, – так вот они были в вязаных люрексовых платьях, кружевных колготках и на каблуках, и одна из них дружелюбно спросила меня: „Тебя привезли картошку чистить, да?..“». Эта тема – постоянного ношения всего «самого лучшего», вне зависимости от обстоятельств, – повторяется в воспоминаниях очень часто – в качестве необходимости делать свое «костюмное выказывание» понятным, пусть хотя бы по одному параметру.