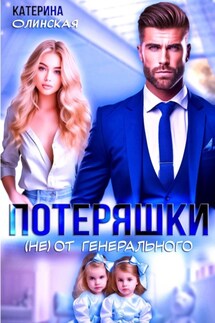Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 61
Это было бы, выражаясь языком старой метафизики, проблемой воли, особенно чистой воли. Или, может быть, кто-то думает, что движение, к которому направлены представление и мышление в воле, уже не касается сознания; что оно является лишь следствием и формой проявления образования кислоты в мышцах? Так можно думать, только если считать, что исполнение достигнутого движения больше не относится к воле; тогда можно полагать, что и сознанию оно тоже не нужно. И различие между движением в мышцах и в нервах может служить предлогом для такого взгляда, который, возможно, признает связь между сознанием и движением нервов, но считает связь между сознанием и движением мышц более отдалённой, а потому и более спорной. Однако все эти рассуждения совершенно ошибочны.
Мы уже учитывали, что движение участвует даже в самых глубоких и тонких процессах формирования представлений. Теперь следует добавить, что особенно важны здесь движения мышц, например, движения глазных мышц. Но как вообще можно серьёзно воспринимать это различие между движением в нервах и в мышцах? Речь идёт лишь об одном виде материального движения. И потому важно осознать неравную меру, с которой движение соотносится с сознанием в зависимости от того, является ли оно центробежным или центростремительным.
Если движение центростремительное, то не возникает сомнений в том, что оно вызывает сознание. Однако центростремительное движение волны раздражения предполагает наличие мышц, нервов и центров. Тем не менее, не возникает сомнений в том, чтобы признать сознание его результатом. Однородность здесь достигается за счёт якобы равномерного агностицизма. Но почему тогда центробежное движение измеряется другой мерой?
Теперь нервы и мышцы должны стать разделительной стеной между сознанием, которое здесь якобы резко обрывается, и движением мышц, которое уже не касается ни сознания, ни воли. Почему вдруг такая разрозненность? Ведь эти мышцы тоже приводятся в движение нервами, а эти нервы тоже имеют свои центры. Как можно понять эту двойную меру, не говоря уже о том, чтобы оправдать её?
Некоторую поддержку этой непоследовательности можно усмотреть в различии, которое физиология проводит не только между чувствительными и двигательными нервами, но и между чувствительными и двигательными центрами. Можно было бы найти подтверждение различия в психическом качестве, так что только чувствительный центр находится в непосредственной связи с сознанием, тогда как двигательный центр нуждается в посредничестве чувствительного. И рефлекторное движение не помогло бы здесь, поскольку оно, по самому своему понятию, исключает любое посредничество чувствительного центра, так как составляет противоположность воле как подлинному сознанию. Таким образом, может показаться, что двигательный центр находится в ослабленной связи с сознанием. Однако и это возражение, и этот предлог не выдерживают критики. Иллюзия здесь основана на ложном взгляде на психологическое значение центральных аппаратов.
Нервные центры в обоих случаях являются лишь отрицательными условиями – как для движения, так и для сознания. Здесь можно применить старую формулу и сказать, что мы так же мало понимаем, как в результате обработки раздражений в центре возникает движение, как и то, как возникает сознание. Центр является в равной степени предпосылкой и для движения, и для сознания. Но в обоих случаях он – не более чем отрицательная предпосылка.