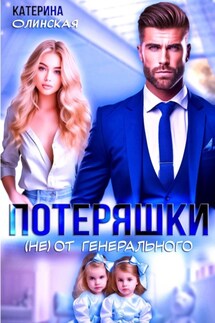Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 62
Если допустить, что движение материальной волны раздражения, передаваемое в центр, обрабатывается в нём так, что в результате может непосредственно вспыхнуть сознание, то как можно, с другой стороны, упускать из виду, что тот же самый центр – ведь он имеет тот же психический характер, будь то двигательный или чувствительный центр – должен находиться в таком же точном отношении к движению, которое он, несомненно, подготавливает? Видно, что эта вторая ошибка – лишь продолжение первой.
Не следовало принимать движение как источник раздражения извне; его нужно было породить в сознании, дать сознанию возможность его создать. Тогда не возникло бы и другой ошибки – считать, что движение, инициированное двигательным центром, в конечном итоге возникает в нём самом, тогда как представление, несомненно, не возникает в чувствительном центре. Но представление считается сознанием, а движение – материей.
Поэтому может возникнуть мнение, что следует различать два вида сознания: сознание представления и сознание движения. Однако, сколь бы приемлемой ни казалась эта точка зрения как переход к разрабатываемой здесь, предуказанной в логике теории, она тоже основана на заблуждении о преобладающем и подлинном значении представления и мышления как сознания, от которого можно было бы лишь попытаться перенести нечто на движение. Между тем логика научила нас – и мы уже не раз обращались к этому и вскоре рассмотрим подробнее, – что в самом чистом мышлении возникает чистое движение. Оно вовсе не является видом сознания, отличным от представления, но внутри сознания чистого мышления движение возникает как вид суждения и категории.
На это глубокое право опирается наше убеждение, что волю нельзя сводить к мышлению настроя и намерения, но следует распространить метод чистоты на исполняющее действие. Если бы, скажем, во имя чистоты, пришлось исключить движение из воли, то пришлось бы уничтожить не что иное, как само сознание, как чистое мышление. Тем самым исполнение воли было бы прервано прежде, чем оно достигло бы своего однородного завершения – и всё это лишь из предрассудка, что движение, в сущности, есть лишь движение мышц. Но что же тогда остаётся от действия? Не является ли оно, несмотря на всю одухотворённость, в конечном счёте, всего лишь движением?
Действие же является подлинным материалом права, а значит, и подлинной проблемой этики. Поступок, конечно, лишь vox media (средний термин); но поэт всё же прав: В начале было дело. Слово и воля сами по себе не исчерпывают силы. Лишь поступок полагает правильное начало. Здесь выражается не только противопоставление квиетизму и аскетическому мистицизму или своеволию произвола и бегству от мира; даже для порождения чистой воли слово даёт верное указание. Воля освобождается от власти представления и связывается с поступком. От поступка этике предстоит проложить путь к действию. Однако этот путь не был бы достижим, если бы в самом движении поступка уже не совершалась чистота. Таким образом, мы снова возвращаемся к чистому познанию как источнику чистоты и более не нуждаемся в распространённых выражениях сознания. Они могли бы казаться пригодными лишь для воли, но не для чистой воли. Применение метода чистоты предполагает применимость понятий происхождения, реальности, непрерывности. Лишь на основе этой методологии чистого познания может возникнуть чистая воля. Но само понятие движения должно быть заимствовано из логики для чистой воли, достигающей своей вершины в действии. Движение само есть категория. Из-за этого трудность кажется непреодолимой. Ибо движение – не просто отношение пространства и времени, как обычно говорят. Напротив, пространство должно быть разрешено в своей особенности, чтобы возникло движение. И это разрешение происходит не просто во времени; для этого, помимо бесконечно малой реальности, требуется ещё и субстанция в качестве предпосылки. Поэтому может показаться, будто попытка перенесения чистого познания движения на чистую волю движения безнадёжна. Тем не менее, нас может направлять методологическая мысль, которую мы уже стремились подтвердить в логике и которую теперь должны развить: основные черты чистого мышления, хотя и могут быть уточнены до точной плодотворности лишь в связи с математическими методами, однако не ограничиваются этим основанием чистого познания, но одновременно раскрываются как основные понятия этики. Таким образом, мы можем попытаться применить чистоту и к движению воли. Здесь мы можем опереться на фундаментальную мысль греческой философии – мысль, связывающую Платона с Пифагором. Понятие души – центральное понятие греческой культуры. Оно соответствует понятию сознания в современной культуре. И подобно тому, как сознание, чтобы засвидетельствовать свою независимость от внешнего мира, сразу же стало самосознанием, то же произошло и с душой. Научная точность понятия души возникла в мировой душе, а не в индивидуальной. Но мировой душе надлежало одушевлять движение в природе. И с этим понятием движения, с душой движения, связывалось" я». Самодвижение (τὸ ἑαυτὸ κινοῦν) стало важнейшей характеристикой души – перенесённой с мировой души на человеческую. Движение не может возникнуть извне, вне движущегося; оно не может в конечном счёте основываться на толчке извне; оно не может быть лишь толкаемым извне. Оно должно иметь свой источник в себе самом. Оно должно начинаться в самом движущемся. Поэтому оно должно быть душой, порождением души. Если бы оно приходило извне, то было бы материей. Так выражается традиционная метафизика. Мы же должны сказать: в таком случае движение осталось бы необъяснённым; оно осталось бы проблемой, разработка которой начинается с другого выражения проблемы – материи, но лишь начинается. Душа есть самодвижение – это означает для нас: движение имеет свой источник в себе самом; то есть: оно чисто, как чистое мышление. Но чистое мышление не исчерпывает понятия души, понятия сознания. Итак, душа есть также воля. А воля есть также движение. И это душевное движение есть самодвижение; оно должно иметь свой источник в себе самом. Если мы теперь попытаемся обозначить этот источник движения для чистой воли, то речь может идти лишь об обозначении; ибо определение остаётся прерогативой математики для дифференциала. Здесь мы можем рискнуть лишь на аналогию. Но эта аналогия должна быть рискнута. Нельзя достаточно подробно противостоять предрассудку, который затрудняет истолкование древнего мотива самодвижения. Если современная психология и физиология говорят об ощущении движения и представлении движения, то это означает ощущение и представление о движении. Но это движение уже должно было произойти, чтобы оставить после себя ощущение и представление. Но разве нет иной проблемы и иного понятия ощущения и представления движения, кроме как о прошедшем, осуществлённом движении? Разве ощущение движения – лишь послеощущение, каковым, конечно, всегда является ощущение? Но разве и представление движения – лишь его тень? Разве не сохраняет силу проблема: как возникает первое движение? Только ли по ту сторону сознания, или же в самом сознании – причём так, что ощущение не было бы лишь отголоском? Ведь нельзя же, как в случае с языком, прибегнуть к уловке, которая является лишь станцией на пути отступления – что движение порождается подражанием. Если это подражание должно быть актом сознания, то вопрос должен повториться: как оно могло возникнуть? Таким образом, остаётся самодвижение, даже если движение, проявляющееся в воле, было бы лишь подражанием движению, которое катится и шумит в природе. Но как в искусстве подражание – лишь несовершенный вспомогательный термин, так и здесь оно ещё менее способно обозначить проблему, не говоря уже о её решении. Поэтому мы не можем останавливаться на ощущении и представлении движения. И подобно тому, как мы перешли от ощущения и сходного с ним вожделения к мышлению и соответствующему аффекту, так и теперь в этом моменте аффекта, соответствующем чистому мышлению, мы должны попытаться обозначить чистый источник. Пусть тенденция обозначит нам эту аналогию. Прежде всего, через неё становится ясной связь между чистым движением и движением стремления. Тенденция соответствует прежде всего impetus и impulsus, ещё яснее – propensione Галилея. Она выражает источник движения. А это и есть принципиальное требование. Напряжение к движению есть развёртывание к движению, а значит, и порождение его. В то же время это выражение напоминает о вожделении, о стремлении. Стремление вернее, чем вожделение; поэтому последнее остаётся недоступным чистоте, ибо вожделение – безусловно переходное слово; оно несёт в себе цель, на которую направлено. Стремление же обозначает внутреннее состояние, внутреннюю деятельность, в которой само сознание расширяется. И это расширение сознания имеет своё начало, вернее, свой источник в том, что мы хотели бы обозначить как тенденцию. Тенденция есть чистое в аффекте. Она прорывается; она изливается; откуда и из чего? Из самой себя. И только из самой себя она должна изливаться. Это значение самодвижения и должна выражать тенденция. Пусть не говорят, что тенденция изливается из сознания; ибо сознание не существует заранее, прежде чем это движение из него изольётся. Движение порождает себя само, а вместе с ним и" я», по крайней мере, зачаток" я».