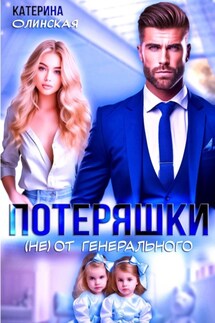Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 64
Сознание нельзя принимать как нечто наличное, тем более самосознание. Как сознание со своей стороны, так и особенно самосознание должны быть порождены волей. Поэтому нельзя также говорить, что тенденция направлена не на внешнюю вещь, а только на сознание, тем более на самосознание; нужно сказать, что тенденция направлена только на себя и за собственные пределы. Лишь внутреннее «я» может быть допустимо как безупречный коррелят в силу противоположности внешнему.
Таким образом, устранено возражение, что тенденция, поскольку она стремится за собственные пределы, не может формировать внутреннее, ибо разрушает его. В этом стремлении тенденции за свои пределы нет никакого разрушения. Такое мнение может возникнуть лишь в том случае, если сознание принимается за нечто данное, а не как проблема, которую предстоит разработать. Тенденция, выходящая за собственные пределы, не разрушает себя, а, так сказать, продолжается за свои пределы.
Понятие тенденции определяется признаком множественности. Оно исключает изолированность. Такая изолированность не была бы чистотой; она лишь казалась бы ею. Но здесь мы сталкиваемся с новой трудностью. Теперь тенденция означает для нас множественность тенденций. Мы не говорим о соединении тенденций, ибо из логики мы узнали, что выражение «соединение» вводит в заблуждение и иллюзорно. На чем основывается соединение, которое подразумевается? Оно может быть осуществлено только через понятие. Поэтому лучше сразу назвать понятие, а именно понятие множественности.
Но если тенденция понимается как множественность тенденций, то возникает трудность: как при этом различать источник воли и направление воли вообще от направления мышления и представления вообще? Множественность означает суждение чистого мышления. Поэтому если тенденция означает множественность тенденций, то как тогда отличается направление воли от направленности суждения мышления?
Ответ на этот важнейший вопрос можно было бы искать в различении самой тенденции от источника и реальности в мышлении. Но этот путь был бы окольным. Ибо если в мышлении должна возникнуть множественность, то требуется время. А время есть антиципация; оно непосредственно устремлено в будущее. Поэтому тенденция сама по себе не может иметь более ярко выраженного характера предвосхищения, чем тот, который присущ времени и, следовательно, мышлению. Но, кажется, множественность основывается на антиципации. Поэтому если тенденция означает множественность тенденций, то антиципация сама по себе может формировать эту множественность только как мышление, а не как волю. Следовательно, мы должны оглянуться на характеристику мышления, чтобы отличить новое направление, которое множественность тенденций принимает для воли, от направления мышления.
Мы знаем, что «соединение» – это вводящее в заблуждение выражение; оно не только не решает проблему, которую якобы решает, но и дает проблеме неточное выражение. Если соединение должно стать объединением, как оно и должно, то разделение должно уравновешивать единение. Поэтому именно разделение является средством так называемого соединения, которое составляет мышление. Чем точнее осуществляется разделение, тем глубже оно становится. Но глубина уже связывает разделение с единением. Всегда и остается разделение, в котором заключается работа и успех мышления.
Воля должна действовать иначе. Нельзя позволять вводить себя в заблуждение возникающей мыслью, что и воля требует точного разделения элементов и мотивов; ибо это требование и степень его удовлетворения зависят от связи, которая должна существовать между желанием и мышлением, если желание должно развиться в волю, или, точнее, если из желания должно возникнуть хотение. Однако на данном этапе мы должны абстрагироваться от этого условия, чтобы точно распознать своеобразие тенденции как источника аффекта. Но если мы должны абстрагироваться от осложнения с мышлением, то мы можем связать различие между волей и мышлением с их отношением к разделению. Мышление основывается на разделении; тенденция противится разделению.