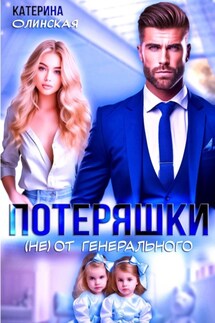Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 63
Однако это значение самодвижения для самосознания не должно нас сейчас интересовать; сейчас все внимание должно быть сосредоточено на самодвижении в значении чистого источника движения, и притом также и для аппетита. Подобно тому как физическое движение в своей математической основе не знает иного содержания, кроме того, которое оно порождает в бесконечно малой реальности, в то время как для прочего содержания движущейся материи оно отсылает к субстанции, – так и для движения стремления не только не дано никакого содержания, но и не положено никакого иного. Для него речь идет вовсе не о каком-либо ином содержании, кроме самого стремления.
Эта исключительность в отношении не только всякого внешнего, но и всякого иного содержания, кроме того, которое составляет само стремление, должна обозначаться как тенденция. Благодаря этому стремление становится независимым и суверенным в себе самом. И этот суверенитет есть прежде всего признак чистоты. Тем самым аффект полностью освобождается от всякого подозрения в чувственности, внешности, патологичности. Нормальность сознания обеспечивается этой внутренностью тенденции. Она есть первое условие чистоты.
Если мы, следуя чистоте, исключаем в тенденции всякое данное содержание и признаем порождение ею самой себя как ее единственное содержание, то тем самым мы приходим к необходимому различию между тенденцией как источником воли и внешним движением. Физическое движение направлено вовне; этим оно характеризуется. Внешнее, правда, порождается пространством, и движение как таковое должно разрешать пространство. Но оно вновь обретает свою пространственную реализацию в субстанции, которая, в свою очередь, овладевает пространством и пользуется им. Таким образом, движение может сохранять отношение к внешнему, хотя изначально оно его разрешает и приводит в поток. Его объект и его проблема – не что иное, как внешний мир, физическая природа. И метод чистоты должен лишь обосновывать реальность этой природы.
Иначе обстоит дело с волей. Правда, и она будет направлена на внешний нравственный мир – право и государство; но речь идет именно о точном различении нравственной внешности от физической. На этом различении основывается различие между логикой и этикой. Поэтому тенденция должна закреплять ограничение внутренним. И так в понятии, в проблеме содержания возникает различие между внешним и внутренним.
Тенденция тоже есть движение; но это движение направлено не вовне, а всегда только внутрь; и там, где оно, казалось бы, устремляется к внешнему, оно схватывает его лишь в содержании, а не просто в рамках этого внутреннего.
В этом значении тенденции кроется кажущееся противоречие. Она знает только себя и ищет только себя; но, согласно своему понятию, она постоянно стремится выйти за собственные пределы. Она не стремится к другим вещам, ибо изначально стремление не было направлено на вещь. Если оно продолжается, то это продолжение должно относиться только к самой тенденции. Однако продолжения требует само понятие тенденции. Она противится остановке. Таким образом, она, кажется, столь же постоянно повторяется и продолжается как саморазрешение, сколь и самопорождение.
Это кажется противоречием в понятии тенденции как источника воли. Видимость этого проистекает из множества ошибок.
Наиболее общая причина ошибки этого возражения заключается в некритическом взгляде на сознание и самосознание, разделяемом даже психологией. Если тенденция должна стремиться за собственные пределы, не направляясь на внешнюю вещь, то это понимается так, будто она должна выходить за пределы сознания. Однако сознания как такового еще вовсе нет; оно только должно быть конституировано. Даже для психологии проблема должна быть поставлена таким образом, не говоря уже об этике, которая, исходя из своих методологических предпосылок, должна формировать понятие воли. Поэтому методологической ошибкой является выведение воли из самосознания.