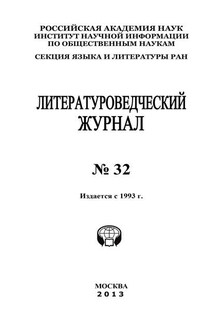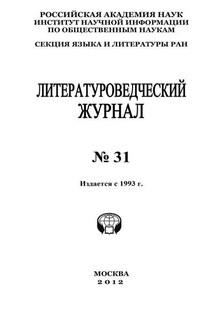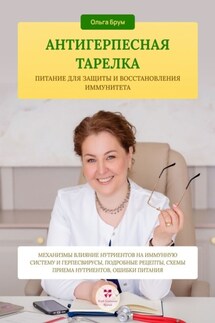Собрание сочинений в 4 томах. Том 3, книга 2. Американский романтизм и современность - страница 35
Американская тема в творчестве Ирвинга доныне остается живой частью литературного наследия писателя, публиковавшего свои книги на протяжении полувека.
В конце 1809 г. Ирвинг выпустил в свет «Историю Нью-Йорка». Написанная от имени мифического Дидриха Никербокера, этого воплощения старой патриархальной Америки колониального периода, «История Нью-Йорка» – романтическая поэтизация американской старины. Ирвинг рассказывает, как он был изумлен, обнаружив, что лишь немногим из его сограждан было известно, что Нью-Йорк когда‐то был голландской колонией и назывался Новым Амстердамом. «И тут я неожиданно понял, – продолжает он, – что то была поэтическая эпоха в жизни нашего города, поэтическая по самой своей туманности, и, подобно далеким и туманным дням древнего Рима, представляющая широкие возможности для всяческих украшений, обычных в героическом повествовании»[77].
Так возник замысел «облечь предания о нашем городе в забавную форму, показать местные нравы, обычаи и особенности, связать привычные картины и места и знакомые имена с теми затейливыми, причудливыми воспоминаниями, которыми так небогата наша молодая страна, но которые составляют очарование городов Старого Света, привязывая сердца их уроженцев к родине» (292).
Прием «найденной рукописи», столь удачно использованный Ирвингом во вступительном очерке к книге, не был новинкой в литературе. Сервантес и Свифт, любимые писатели Ирвинга, уже использовали его, а Чарльз Брокден Браун в предисловии к своему роману «Виланд» уверяет читателей, что публикует письма героини к друзьям о роковых событиях, свидетельницей которых она стала.
Но особенно популярным сделался этот прием после ирвинговской «Истории Нью-Йорка». Уже в 1824 г. Джеймс Фенимор Купер в предисловии к задуманной им серии романов об истории Соединенных Штатов пародирует Ирвинга: «Автор торжественно заявляет прежде всего, что никакой неведомый человек не умирал по соседству с ним и не оставлял бумаг, которыми автор законно или незаконно воспользовался. Никакой незнакомец с мрачной физиономией и молчаливым нравом, вменивший себе молчание в добродетель, никогда не вручал ему ни единой исписанной страницы. Никакой хозяин гостиницы не давал ему материалов для этой истории, чтобы выручкою за использование их покрыть долг, оставшийся за его жильцом, умершим от чахотки или покинувшим сей бренный мир с бесцеремонным забвением последнего счета, т. е. на его похороны»[78].
Тем не менее художественный прием «найденной рукописи» еще долгие годы оставался живым в американской литературе. В 1850 г. его использовал Натаниел Готорн во вступительном очерке к роману «Алая буква»: автор уверяет, что нашел среди бумаг давно умершего таможенного надзирателя Джонатана Пью историю Бостона XVII в. и разыгравшейся там трагедии. Так дух неугомонного Дидриха Никербокера, автора романтических историй о далеком прошлом своей родины, вновь воскрес, на этот раз под именем досточтимого мистера Пью.
Склонность к мистификации не покидала Ирвинга и позднее. Свою «Хронику завоевания Гренады» (1829) он выпустил под псевдонимом монаха-летописца Антонио Агапиды, испанского Никербокера, воплотившего в себе дух рыцарства и веру средневекового фанатика.
Академик М.П. Алексеев отмечает, что в начале XIX в. мотив «находки рукописей» был в повсеместном употреблении то в серьезных, то в сатирических целях, то просто ради повышения занимательности повествования