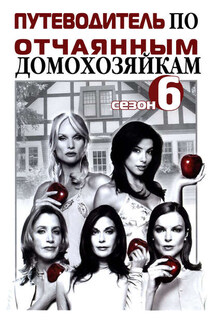Социологический ежегодник 2010 - страница 61
Безработица, обострение этнонациональных проблем, наркомания, самоубийства, эмиграция самых продвинутых и протесты самых беззащитных – все это симптомы растущей социальной напряженности. Но для их устранения недостаточно очередного массового опроса по схеме, навязанной социологами. Российское общество столь разнообразно по столь большому количеству параметров, что в идеале в каждом микрорайоне действительно должен быть свой социолог. И самое удивительное, что они есть. Даже в отдаленных поселках. Это – «гражданские эксперты», местные жители, прошедшие соответствующую подготовку, или участники гражданских инициатив, или же – независимые эксперты, не гнушающиеся «идти в народ» с тем, чтобы объяснять, помогать и учиться самим.
Это не простая задача – поставить в центр социологического интереса человека мыслящего, творческого, а не играющего и поющего, но разве это не наша задача? Утопия, скажете вы? Не думаю. Посмотрите на резкий рост в последнее месяцы массового недовольства самых разных групп самыми разными проблемами. Их «общий знаменатель» легко вычисляется: экономическая и внеэкономическая эксплуатация, насилие, обман, несправедливый суд, жестокость правоохранительной системы, безответственность чиновников, коррупция и т.д.
Идеология свободной конкуренции и жизни в кредит здесь не подходит. Европейский союз едва не развалился, когда финансовый пузырь, который, казалось, можно надувать вечно, вдруг лопнул. Европейский союз «в его нынешнем виде держится лишь на страхе грядущей катастрофы» (5, с. 6). Если мы не хотим, чтобы Россия превратилась в третьестепенную страну, растаскиваемую по кускам международными монополиями, то структурирование общества должно следовать человеческим интересам и связям, а не строиться по степени его привязанности к «трубе». Государство до предела сузило коридор социальных возможностей массового гражданского активизма, теперь необходимо его расширять. Но есть и другая сторона нашей жизни: жестокость, причем все чаще немотивированная − в семье, школе, армии, местах заключения. Значит, гуманитарная составляющая этой модели должна быть направлена на «терапию» этой тяжелой болезни.
Гуманизация модернизации – это не «бантик» на голове технобюрократической машины, не облагораживающий ее «тюнинг», а процесс, который должен начинаться раньше техноэкономической модернизации. Ясно, что создать такую среду в одночасье невозможно: российское общество до сих пор не столько гуманизировалось, сколько двигалось в обратном направлении. Энергосберегающие лампочки, краны и трубы – это хорошо, учет наших расходов необходим, но главное – создание институциональной и жизненной среды для того, чтобы все это состоялось. Анклавная технобюрократическая модернизация силами авторитарной власти возможна, всеобщая, ориентированная на развитие человека, на «креатив», – нет. Первые шаги власть имущих показывают, что им милее и привычней первый вариант: он относительно дешев, осязаем, его легко презентировать и пропагандировать. Но без ориентации на развитие человека это будет очередной имитационный вариант модернизации. Как уже не раз случалось в нашей истории, заимствованные на Западе новейшие образцы (техники, организации, логистики, моды) наша российская институциональная и человеческая среда постепенно адаптировала до своего уровня и интереса. Телогрейки, наброшенные шахтерами на контрольно-измерительные инструменты, гарантирующие относительную безопасность тех, кто работает под землей (я имею в виду катастрофу на шахте Распадская), – яркий тому пример. И это будет продолжаться бесконечно и во всевозрастающих масштабах, пока не перейдет в социальный взрыв.