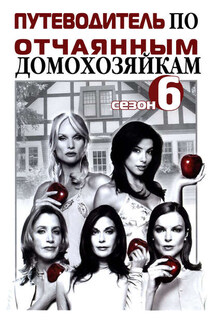Социологический ежегодник 2010 - страница 60
Диалектике перехода «морфологии» в «аксиологию» посвящено немало работ западных и российских исследователей. Более того, во все периоды перехода от одной фазы модернити к другой западная социология уделяла и продолжает уделять особое внимание новым социальным движениям (10; 14; 16), потому что они были движущей силой этих переходов, которая противопоставила меркантилизму нематериальные ценности. Нельзя сказать, что западные социологи в этом преуспели, – рынок продолжает разрушать любые формы человеческих сообществ, ориентированных на духовные ценности, взаимопомощь и поддержку. Но без гражданских инициатив и общественных движений перемены невозможны вообще.
Если мы стремимся построить «общество, основанное на знаниях», то последнее не должно быть обществом, где знания будут таким же инструментом господства и эксплуатации, каким сегодня является финансовый капитал. «Сначала надо построить общество, в котором акты личного самовыражения будут цениться выше, чем изготовление вещей или манипуляция людьми» (3, с. 116). Российская социология все более подчиняется государственно-корпоративной машине нашего общества, выполняя в лучшем случае информационную, но все чаще – охранительную функцию, тогда как западная нацелена главным образом на анализ и критику. Другое различие: мы в основном ориентированы на изучение и применение концепций модернизации, годных для развитых стран, тогда как в центре интереса большинства западных социологов и политологов сегодня находятся процессы модернизации и демодернизации стран «третьего» и «четвертого» миров. Как говорил Иллич, «модернизированная бедность – это сочетание бессилия перед обстоятельствами с утратой личностного потенциала» (3, с. 27).
Наконец, еще одно важное различие. Одно дело – бесконечные «срезы» и «коллективные фотографии», называемые у нас опросами общественного мнения. И совсем другое – каждодневная, длительная и упорная работа социолога с лидерами и активистами любого социального движения, прежде всего – с целью понять их, вникнуть в строй их мыслей, а затем помочь им грамотно выразить свои требования, овладеть навыками общественной жизни, стать публичными фигурами, научиться просчитывать возможности и ресурсы – свои и противостоящих сил. В конечном счете логика «заказа» (государству или бизнесу нужно то-то и то-то выяснить для своих, меркантильных или политических, целей) противостоит логике «понимания» (кто мы, чего мы хотим и чего реально можно добиться). В первом случае это «представительская социология», потому что право думать за народ берут на себя социологи. Во втором – «социология совместного анализа и действия», потому что вопросы ставятся, структурируются и разрешаются социологами совместно с населением и / или представляющими его территориальными группами или виртуальными сообществами. Огрубляя, можно сказать, что в первом случае это «государственническая социология», во втором – социология гражданского общества.
Идея социологии как «зеркала общества» ущербна, потому что люди в массовых опросах обезличены, сведены в искусственные группы (в которых они никогда реально не участвуют как акторы), а связь между этим знанием-зеркалом и действием многократно опосредована − институционально и политически. Известно, что данные массовых опросов не только интерпретируются разными учеными по-разному, но и проходят массу политических фильтров «наверху».