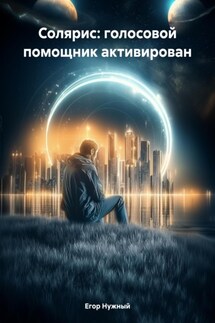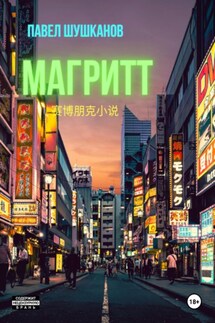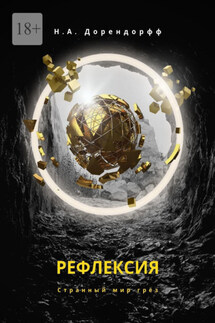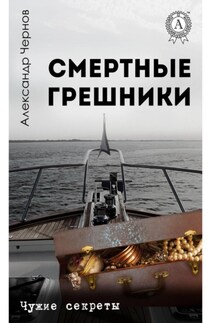Солярис: голосовой помощник активирован - страница 3
Ну, как мух на мёд.
Мужикам, в 99% случаев, всё это осточертело ещё на подлёте. Им бы пивка, гамак и море рядом – и чтобы в радиусе ста метров ни души.
Но нет же – «в Дубай».
И ладно бы просто Дубай.
Для меня всегда был клинический диагноз – просьба отвезти типичную Марину в созвучный с этим именем район. Район, который как будто построили не архитекторы, а рекламный отдел глянца.
Словно кто-то решил сымитировать “рай для успешных”, но забыл вложить туда что-то кроме глянца, кафеля и обслуживающего персонала. Этот район можно назвать центром паломничества – "ботоксное святилище". Пластиковый Вавилон. Центр гравитации всех, кто считает, что личностный рост начинается с губ и заканчивается фотками пятой точки у бассейна на крыше.
А мне вот – деревня милее.
Не из-за романтики.
Из-за честности.
Я смотрел в зеркало и вдруг поймал себя на мысли:
«Когда я начал жить по ночам?»
«Когда день стал чем-то, что нужно просто пережить, пока можно опять ехать в темноте?»
К машине подошёл очередной пассажир. Без слов открыл дверь, плюхнулся на заднее сиденье, уткнулся в телефон и застыл. Ни тебе «здравствуйте», ни даже кивка. Просто присутствие по умолчанию. Через пару секунд в приложении – том самом, жёлтом, который знает о тебе больше, чем семья, – появился адрес.
Словно у нас по всей стране уже давно ездят беспилотные такси. Люди садятся в машину как в лифт: никого нет, всё само, голосовые команды отменены за ненадобностью.
Ну да ладно.
Навигатор показал маршрут.
Я нажал «поехали».
А в голове, как всегда в такие моменты, включился другой навигатор – тот, что ведёт не по улицам, а по памяти.
Меня отправили в деревню – к бабушке и прабабушке.
Не по идиллии, не на лето – просто потому, что в тот момент так было безопаснее. Про это уже говорилось: родители держались на грани, и ближе к ним в те годы было опаснее, чем дальше.
А там, в переулке, стоял одинокий дом. По советским меркам – отличный, кулацкий. Дом с историей и следами прежнего уюта, как будто прошлое ещё не успело выветриться. Был отдельный кирпичный курятник и кладовка – не пристроенные абы как, а построенные с умом. Каждое утро мы с прабабушкой шли туда – выпускать кур на свет. А вечером, по часам, загоняли обратно. У них был свой распорядок, почти как у людей.
Иногда мы с прабабушкой садились на крыльце с тазиком и чистили кукурузу – початок за початком. Листва, что обёртывала зёрна, резала тонкую детскую кожу, будто специально – зазря не расслабляйся. Потом несли всё это к крупорушке – старой, шумной, скрипучей. Мололи кукурузу в крупу – жёлтую, с хрустом. Для кур. Шли в огород рвать буряк – чуть крупнее обычной свёклы, в земле, с грязными корнями. Потом терли его на широкой тёрке, размером почти с меня.
Каждую весну сажали картошку. Бабушка платила по 50 копеек за каждого собранного жука. Это были хорошие деньги по тем временам. Ну, если учитывать, что стакан пломбира тогда стоил семь-восемь рублей, а сейчас деревенские мальчишки меньше чем за сотку фары и стекло тебе не протрут. Наверное, поэтому и желающих нет.
А перед посадкой вытаскивали её всю из подвала и раскладывали по полу в доме. (Крипово звучит? Ну… да. Но это было нормально.) На пару недель – для прорастания. Жили как на складе. Или как «белорусский» космонавт из фильма «Марсианин». Только узкий проход оставался – до стола, до кровати. Всё остальное было усыпано клубнями.