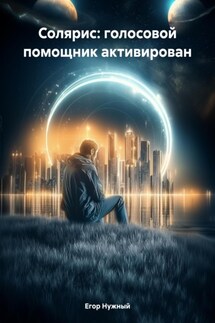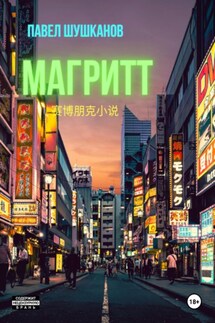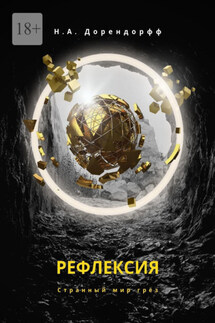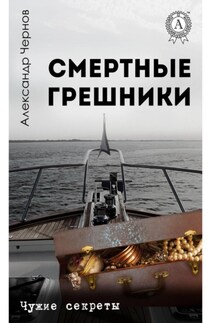Солярис: голосовой помощник активирован - страница 4
Но в этом тоже был какой-то свой порядок.
Был гараж, в котором стоял старенький Урал бирюзового цвета. Я любил лазить по нему, дёргать тумблеры, трогать рычаги, воображать, как мчусь на нём через степь – взрослый, свободный. Прокатиться удалось только один раз. Потом, кажется, его продали. Или отдали. Сейчас уже не вспомню. Вроде бы и неважно, но почему-то запомнилось.
Была и летняя кухня – отдельная, стоящая за домом. В основном доме не готовили: так заведено было. Каждое утро бабушка вставала, шла за углём в сарай, топила печку – и только потом, в тепле и запахе золы, готовила мне завтрак перед школой.
Эти звуки и запахи – не про еду.
Про безопасность.
Я очень любил играться с раскалённой плитой.
Капал на неё воду – по капле, медленно.
И смотрел, как они начинают танцевать – маленькие шарики, дёргающиеся в своей последней пляске.
Потом, уже много лет спустя, я узнал, что это называется эффектом Лейденфроста. А тогда это было просто магией. Все магия, когда толком ничего не знаешь….
Дом этот когда-то принадлежал моему прадеду.
Человеку, которого я не знал, но о котором слышал столько, что в голове давно выстроился его портрет. Не интеллигент. Всю жизнь в телогрейке. Колхозник, но по словам всех, кто его знал – человек с редкими моральными принципами. Не ругался, не пил, не бил детей. Работал. Думал. Слушал. Помогал.
У нас в семье его почти боготворили. Своего рода культ прадеда. Он вернулся с войны без ноги. Женился на местной красавице. Стал руководителем маслобойни – не по кумовству, а потому что был таким, кому доверяли, и кто не украдет. Поднял семью. Завёл троих детей. Старшей была моя бабушка.
Но времена изменились.
Дедушки умер от рака задолго до моего рождения, маслобойня через дорогу уже лет пятнадцать как стояла в бурьяне.
Ржавые балки, выбитые окна.
Колхозный двор, что через забор, зарос по пояс.
Никакой живности, никакого гула.
Тишина такая, что слышно, как кошки дерутся за сараем. Ощущение было такое, как будто живёшь на персональном необитаемом острове, только с бабушкой, прабабушкой и дохлой антенной на крыше.
Зато были книги.
Книги – это был портал.
Шерлок Холмс и его метод дедукции. Д’Артаньян и три мушкетёра. Беляев с его «Головой профессора Доуэля» и «Человеком-амфибией». «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо» со своим Пятницей, «Сердца трёх» Джека Лондона – и многое другое, ещё до того, как Гарри Поттер стал мейнстримом. Хотя и у него, надо признать, была полезная “суперсила” – он мог разговаривать со змеями.
Согласитесь, полезный сегодня навык.
Я жил в них. Буквально.
Они были не хобби – а способ дышать.
Пока одноклассники мечтали о плеере или о новой Яве, я мечтал стать кем-то из тех, кого читал.
Меня никто не заставлял читать. Мне самому хотелось. Это началось где-то с пяти лет. Не могу сказать, что я проглатывал книги, как из пулемёта – нет. Некоторые растягивались на месяцы. Но мне всегда хотелось вникнуть в суть. Понять мотивы героев. Примерить их на себя, пережить вместе с ними. Страдать так же, как страдали они. Эмпатично прожить их страх, боль, выбор.
Не просто знать, чем всё закончится – а ощутить, почему всё началось.
Наверное, поэтому я далеко не каждую книгу мог осилить. Особенно – русскую классику.
И как бы парадоксально это ни звучало, уроки литературы в школе были самыми нелюбимыми.
Я бы даже сказал – я их искренне ненавидел.
На мой взгляд, нельзя насильно заставить что-то читать. Человек должен сам к этому прийти. Или не прийти вовсе. Но точно не писать потом шаблонные, общепринятые изложения о том, “что хотел сказать автор” – не чтобы понять, а чтобы угадать правильный ответ и получить баллы на ЕГЭ.