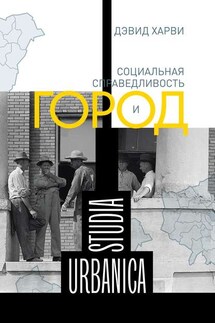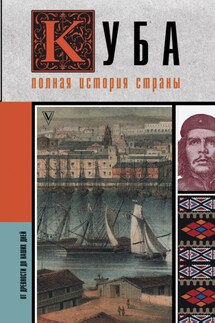Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений - страница 33
Напрашивается вывод, что в течение этого непродолжительного промежутка времени весь мир репрезентации и знания претерпел фундаментальную трансформацию. Как и почему это произошло – вот вопрос, имеющий отношение к самой сути дела. В части III этой книги будет рассмотрен тезис, что причиной этой одновременности было радикальное изменение опыта пространства и времени в западном капитализме, но есть и другие заслуживающие внимания аспекты рассматриваемой ситуации.
Описанные изменения, разумеется, были вызваны утратой веры в неизбежность прогресса и нарастающим беспокойством относительно незыблемости категорий просвещенческой мысли. Это беспокойство отчасти проистекало из турбулентного пути классовой борьбы, в особенности после революций 1848 года и публикации «Манифеста Коммунистической партии». Прежде такие принадлежавшие к традиции Просвещения мыслители, как Адам Смит или Сен-Симон, могли резонно утверждать, что, как только оковы феодальных классовых отношений падут, добродетельный капитализм (организованный либо с помощью невидимой руки рынка, либо за счет силы ассоциаций, о которых много рассуждал Сен-Симон) может предоставить выгоды капиталистического модерна для всех. Именно этот тезис, который решительно отвергали Маркс и Энгельс, становился все менее прочным по ходу XIX столетия, когда классовое неравенство, порождаемое внутри капиталистической системы, становилось все более и более явным. Социалистическое движение бросало все больший вызов единству просвещенческого разума и привносило в модернизм классовое измерение. Кому следовало наполнять модернистский проект и направлять его – буржуазии или рабочим? И на чьей стороне находились производители культуры?
На эти вопросы не могло быть простого ответа. Начнем с того, что пропагандистское и в прямом смысле политическое искусство, интегрированное в революционное политическое движение, было сложно согласовать с модернистским каноном для индивидуалистического и преимущественно «ауратического» искусства. Конечно, идея художественного авангарда при определенных обстоятельствах могла быть интегрирована с идеей авангардной политической партии. Время от времени коммунистические партии стремились мобилизовать «силы культуры» в качестве составной части своей политической программы, а некоторые авангардные художественные движения и конкретные художники (Фернан Леже, Пабло Пикассо, Луи Арагон и т. д.) активно поддерживали дело коммунистов. Но даже в отсутствии явно выраженной политической повестки культурному производству приходилось производить политические эффекты. Художники в конечном счете имеют отношение к окружающим их событиям и проблемам и конструируют способы ви́дения и репрезентации, обладающие социальными смыслами. Например, тот род искусства, что являлся на свет в счастливые дни модернистского обновления перед Первой мировой, прославлял универсалии даже в окружении множественных перспектив. Это искусство выражало отчуждение, антагонистичное любому ощущению иерархии (даже ощущению субъекта, что продемонстрировал кубизм), и часто было критически настроено к буржуазному консюмеризму и образу жизни. На этой стадии модернизм в значительной степени находился на стороне духа демократизации и прогрессивного универсализма, даже в тех случаях, когда его концепция была совершенно «ауратической». Вместе с тем в период между двумя мировыми войнами события все больше и больше заставляли художников открыто демонстрировать свои политические предпочтения.