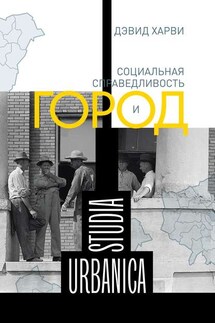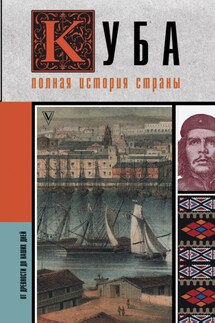Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений - страница 35
Этот миф должен был либо избавить нас от «бесформенного универсума случайности», либо, что более запрограммировано, обеспечить нас стимулом к новому проекту для человеческого устремления. Одно из направлений модернизма апеллировало к тому образу рациональности, который воплощался в машине, фабрике, в мощи современной технологии или же в городе как «живой машине». Уже Эзра Паунд выдвинул тезис, что язык должен подчиняться эффективности машины, и, как показала Сесилия Тичи [Tichi, 1987], столь разноплановые модернистские авторы, как Джон Дос Пассос, Эрнест Хемингуэй и Уильям Карлос Уильямс, моделировали свой стиль в точности в соответствии с этой установкой. Уильямс, например, сильнее прочих держался мнения, что стихотворение есть не более или не менее чем «машина, составленная из слов». Именно эту тему столь энергично превозносил Диего Ривера в своей необычайной настенной росписи в Детройте, она же стала лейтмотивом и у многих прогрессивных настенных художников в США времен Великой депрессии.
«Истина – это значимость факта», говорил Мис ван дер Роэ, и многие деятели культуры, особенно те, кто работал в рамках и в орбите влиятельного в 1920-х годах движения Баухаус, начинали внедрять рациональный порядок («рациональное» в данном случае определялось технологической эффективностью и машинным производством) для социально полезных целей (освобождение человека, освобождение пролетариата и т. п.). «Путем порядка приносить свободу», – так звучал один из лозунгов Ле Корбюзье, который подчеркивал, что в современном метрополисе свобода и вольность (freedom and liberty) принципиально зависят от внедрения рационального порядка. В межвоенный период модернизм принял отчетливо позитивистский уклон и посредством напряженных усилий Венского логического кружка основал новый стиль философствования, который станет ключевым для социальной мысли после Первой мировой войны. Логический позитивизм был столь же сопоставим с практиками модернистской архитектуры, сколь и с прогрессом всех форм науки как воплощений технического контроля. Это было время, когда дома и большие города неприкрыто воспринимались в качестве «машин для жизни». Именно в эти годы собрался могущественный Международный конгресс современной архитектуры (CIAM) для принятия своей знаменитой Афинской хартии 1933 года, которая на протяжении следующих примерно тридцати лет во многом будет определять, что такое модернистская архитектурная практика.
Столь ограниченное представление о сущностных характеристиках модернизма было широко открыто для неверных интерпретаций и злоупотреблений. Даже внутри самого модернизма имеются существенные возражения (вспомним «Новые времена» Чаплина) по поводу идеи, что машина, фабрика и рациональность дают достаточно состоятельное исходное основание для определения вечных качеств современной (