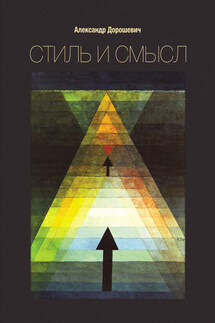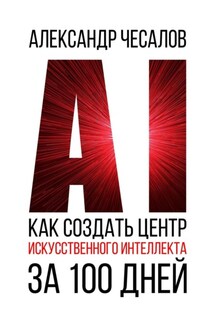Стиль и смысл. Кино, театр, литература - страница 38
Английский писатель и социолог Малколм Брэдбери писал в 1979 году: «Совершенно очевидно, что сегодня мы живем в некоем стилистическом котле, в мире трансформирующихся социальных, сексуальных и эпистемологических отношений, в мире, где взаимоотношения стилей приобрели серьезную социальную функцию. Мы встречаем представителей богемы на каждом углу, самопародистов в каждой модной лавке, неохудожников в каждой дискотеке.
Новый нарциссизм современной западной культуры довольно часто подвергался анализу в последнее время; частью этого нарциссизма стало то, что стилистические взаимодействия получили социальную функцию, оказались способом соприкосновения с современной историей и миром позднего технологического общества. Выдвижение вопросов стиля на первый план привело в дискуссиях о современном искусстве и литературе к частым разговорам о метаискусстве, паракритике, сверхлитературе. Но в то же самое время упор на стиль приобрел тенденцию склоняться к иронии. Трудно, разумеется, выделить какую-то одну доминирующую тенденцию в области искусства, которое включает в себя абстрактный экспрессионизм, поп-, оп- и кинетическое искусство, фотореализм, минималистское и концептуальное искусство, синтетические действа и хэппенинги и которое черпает свои средства из огромного разнообразия культурных контекстов. Но если и существует какая-то доминирующая черта, то это элемент некой изначально данной условности, настоящее тяготение к пародии и самопародии.[56]
Брэдбери, таким образом, исследует решения проблемы стиля, осознавшего свою ограниченность как стиль. Аналогичным образом философия пытается решить проблему сознания, осознавшего себя как самосознание и тем самым лишенного бытия, опредмеченного. («Как только сущее становится предметом представления, сущее известным образом лишается бытия», – говорит Хайдеггер). Что же касается стиля, то он, будучи осознан в своих правилах и рамках, теряет свою непосредственность и «наивность» высказывания. В результате, его рамки либо преодолеваются в стремлении, либо выйти за них на какой-то более высокий и универсальный метауровень (то, что Бредбери называет «разговорами о метаискусетве, паракритике, сверхлитературе»), либо «склоняется к иронии», к сознательной игре застывшими формами.
Выйти за пределы опредмеченного мира и опредмеченного стиля – основной импульс всякого авангардизма. Как пишет Умберто Эко: «Футуристский лозунг «Долой сияние луны!» – типичная программа любого авангарда, стоит только заменить сияние луны чем-нибудь подходящим. Авангард разрушает прошлое, традиционную образность: «Девушки из Авиньона» – типичный авангардистский жест.»[57]. Авангардистское разрушение образности – это объявление ложными и неистинными («идеологией») всех существующих способов выражения, стремление всеми доступными и недоступными способами сказать больше, чем позволяет язык, все время находиться в состоянии перехода границы структурно организованных социальных, культурных и языковых контекстов, Однако постоянное пребывание на грани невозможно, оно неизбежно приводит к полному молчанию как к самому радикальному отрицанию всех возможных способов выражения и одновременно самому широкому полю еще не состоявшегося высказывания. Авангардизм и модернизм заходят в тупик абсолютного нуля. Постмодернизм предлагает выход из тупика. Вот как иллюстрирует эту ситуацию Эко: «Подход постмодернизма кажется мне похожим на подход человека, влюбленного в просвещенную даму. Он знает, что не может сказать: «Я безумно тебя люблю», потому что он знает, что она знает (и что она знает, что он знает), что это уже написал Лиала. И все же выход есть. Он может сказать: «Как сказал бы Лиала, я безумно тебя люблю». Вот так, обойдя ложную невинность и четко сказав, что невинного разговора уже не получится, он в то же время уже сказал даме все, что хотел.»