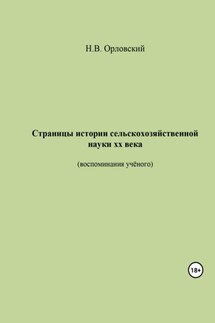Страницы истории сельскохозяйственной науки ХХ века. Воспоминания учёного - страница 3
На этом фоне следует с благодарностью отметить недавнее издание солидного труда «Избранные диалоги» Платона с предисловием и комментариями В. Асмуса[4].
Многое из бесед Сократа, этого неугомонного искателя истины, которые он вел на площадях древних Афин, звучит столь современно, что диву даешься, как за два тысячелетия сохранились характеры, страсти, настрой души человека. Да и сократы сохранились… Пусть в другом виде, в ином издании, в современной обложке… Пусть над ними смеются, издеваются, их пытаются перевоспитать… Но секретов род неистребим и постепенно, хотя и понемногу, воспроизводится.
Дело историков, социологов и биологов – в этом процессе разобраться, а я, воспитанный на дрожжах давнего материализма Бюхнера, Молешотта, Дарвина, Чернышевского и Писарева, читавшихся подпольно в беспорядке еще в стенах духовной семинарии, говорю: «Да здравствуют современные сократы!»
Родитесь почаще, живите подоле! И пусть сократовские формулы: «Познай самого себя» и предельно скромная «Я знаю, что ничего не знаю» – звучат громче среди современной молодежи!»
И это – не призыв к возврату идеализма, а попытка с позиций современного диалектического материализма очистить практику нашей жизни от некоторых извращений в виде сугубого практицизма поступков, примитивного карьеризма в поведении, преклонения перед авторитетами; снять навеянные ходом событий последних лет одиозные характеристики с некоторых лиц и посмотреть на них хотя бы с позиций так называемого «здравого смысла».
И, конечно, это – не нравоучительный трактат, а простой рассказ с некоторыми рассуждениями о жизни и судьбах русских интеллигентов XX века. Свою историю мы должны знать и бережно хранить.
На длинном жизненном пути мне пришлось встретиться с огромным миром ощущений, идей, с пестрым калейдоскопом событий и людей самого различного масштаба и качества в отношении талантов, энергии, морального облика и т. п. Но среди пестрой толпы изредка выделялись отдельные единицы, отличающиеся каким-то особым своеобразием поведения, мысли, отношением к окружающему миру, к своим обязанностям. Это и есть наши, отечественные сократы, которые уже самим своим существованием поднимали ведомый ими коллектив на качественно иной, высший уровень. И я счастлив тем, что мне пришлось встречаться, сталкиваться и даже работать с ними. В своих дальнейших рассказах о прошлом они, естественно, выйдут на первый план, но я не собираюсь ставить на них сократовского штампа, указывать на них пальцем: «Смотрите, вот Сократ!» Надеюсь, что читатели не хуже самого автора разберутся, кто из огромной толпы заслуживает по-настоящему этого высокого звания.
В своем изложении, принявшем по необходимости мемуарный характер, я старался обойти сугубо личные переживания, а фиксировал внимание читателя на событиях общественного значения, в которых по свойствам моего характера и темперамента мне приходилось активно участвовать. В результате потребовалось изображение исторического фона, на котором развертывались описываемые события. Мемуарный характер изложения воспоминаний о прошлом сразу ставит вопрос об объективности изложения. Пожалуй, этот вопрос наиболее серьезный и, я бы сказал, наиболее сложный.
В современной мемуарной литературе преобладают воспоминания крупных военачальников (маршалов), и в них часто сквозит штабная правка. Видимо, в военных мемуарах без этого и не обойтись, но те же дневниковые записи, начатые К. Симоновым, мне нравятся больше. Ведущие политические деятели и дипломаты, оставившие после себя мемуары, пожалуй, более других были склонны к причесыванию пережитых ими событий под жесткий гребень своей эпохи. Таковы замечательные записки Цицерона «О старости, о дружбе, об обязанностях». Эпоха республиканского Рима была бурной и для него трагической (заговор и убийство Цицерона). Записки Черчилля, известного идеолога империализма, отличаются особой апологией его мировоззрения. Объективное изложение событий военных лет можно найти в талантливо написанных воспоминаниях А. А. Игнатьева