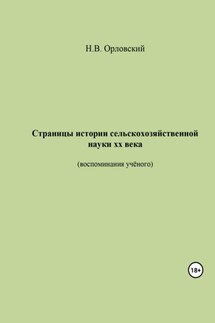Страницы истории сельскохозяйственной науки ХХ века. Воспоминания учёного - страница 4
Но особый интерес для меня представляли мемуары ученых или о них. Я здесь не могу останавливаться на классических образцах мемуарной литературы типа «Детство и отрочество» Льва Толстого и его обширных дневниковых записей, «История моего современника» В. Короленко, «Детство. Мои университеты» М. Горького. Эти классические образцы общеизвестны. Они отдельными фрагментами входят в школьные программы. В последние годы стала известной обширная переписка А. Чехова с артисткой Книппер, с его родными, писателями. Театрализованный показ по телевидению сделал эту переписку широко известным и весьма привлекательным документом.
Я остановлюсь здесь на солидных по объему монографиях, изданных за последние годы, и прежде всего на мемуарах академика Н. П. Дубинина[7]. Эта монография представляла для меня особый интерес потому, что волею судьбы мои и Н. П. Дубинина жизненные пути тесно переплетались. Он родился в 1907 г. и на 9 лет моложе меня. Мы оба родом из Самарской губернии. Толпы голодных беспризорников я наблюдал на Самарском вокзале и по всему пути экспедиции Самарского сельхозинститута в Ташкент – «город хлебный». В 1920–1921 гг., когда я сбежал из голодной Самары в «Петровку» – Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, я сталкивался с ними на базаре под Сухаревской башней и по подвальным этажам «Садового кольца» у Никитских ворот. И нет ничего странного в том, что объектив фотокорреспондента смог зафиксировать улыбающуюся физиономию 12-летнего мальчишки Коли Дубинина, выглядывающего из-за плеча В. И. Ленина, приехавшего на Красную площадь на первомайский парад 1919 г. Коля Дубинин был парень любопытный и проникал в любую щель. Для того чтобы установить подлинность случайного снимка подростка, потребовался специальный криминалистический анализ портрета 60-летнего академика Н. П. Дубинина.
Моя деятельность в Саратове была тесно связана с селекцией и семеноводством зерновых культур на Среднем и Нижнем Поволжье и близким знакомством с известными деятелями по опытному делу к селекции: Н. М. Тулайковым, Г. К. Мейстером, К. Ю. Чеховичем, Е. Н. Плечек, А. П. Шехурдиным, В. Н. Мамонтовой и др. С моим переходом на Уральскую СХОС и позднее в СибНИИЗХоз (Омск) я тесно был связан с геоботаником И. В. Лариным и довольно детально изучил природные условия поймы р. Урала, так поэтически изображенные в монографии Н. П. Дубинина, часто встречался с волками, бесчисленными стоками сайгаков в полупустыне Прикаспия.
После того долгие годы я был связан с заболоченными и засоленными бескрайними пространствами Барабы, защитил успешно в тяжелые послевоенные годы докторскую диссертацию, но после известной августовской сессии 1948 г. ВАСХНИЛ долгое время носил тяжелую для того времени кличку «менделиста-морганиста», многократно увольнялся по «собственному желанию» из сельскохозяйственных вузов (Новосибирск, Барнаул), принимал активное участие в целинной эпопее на Алтае, в Западной и Средней Сибири.
В общем, я варился в том же кипящем котле, что и академик Н. П. Дубинин, но только в другом, более скромном качестве, и по линии в основном почвоведения, агрохимии, растениеводства, общего земледелия и агромелиорации. Мне при этом пришлось встречаться с тем же огромным рядом представителей биологической и сельскохозяйственной науки, который упоминается в первом издании монографии. Но отзывы о них часто поражают читателей своей субъективностью, а иногда и противоречивостью.