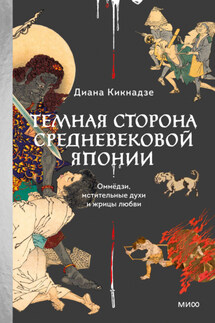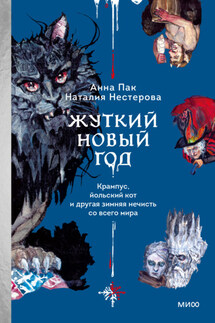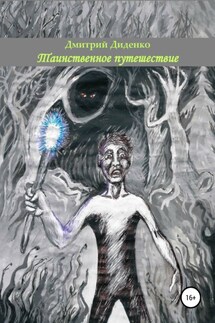Темная сторона средневековой Японии. Оммёдзи, мстительные духи и жрицы любви - страница 5
Продолжая тему художественной литературы, необходимо отдать дань уважения целому пласту изящной прозы: личным дневникам, романам и эссе, принадлежавшим кисти женщин-аристократок. Многие из плеяды писательниц принадлежали к аристократии, служили при дворе в качестве фрейлин в свите императриц или принцесс. Думаю, русскоязычному читателю хорошо знакомы Сэй-сёнагон и ее «Записки у изголовья», Мурасаки Сикибу и ее грандиозный роман «Повесть о Гэндзи», как и ее личный «Дневник». И этот перечень – лишь малая часть того наследия, которое нам оставили образованные дамы эпохи Хэйан.
Придворная поэтесса эпохи Хэйан Оно-но Комати
Гравюра Тории Киёнаги. Около 1790 г.
The Metropolitan Museum of Art, New York (Public Domain)
Безусловно, их вклад напрямую связан с поворотом в истории японской письменности, который привел к возникновению двух слоговых азбук, соответствующих гласным звукам и слогам в японской речи. Из этих двух азбук хирагана считалась «женским письмом» и была им доступна, в отличие от катаканы и иероглифики, считавшихся «мужским письмом». Катакана долгое время использовалась для транскрибирования китайских сутр и создания текстов от лица мужчин. Существовал некий ценз на использование иероглифов женщинами из-за строгого разделения на мужские и женские сферы жизни аристократии. Нельзя, однако, утверждать, что хираганой не пользовались мужчины, ведь самый первый дневник от лица женщины написан на хирагане известным поэтом Ки-но Цураюки, только, разумеется, он не был никак подписан. Анонимность вообще была свойственна хэйанским писателям. Одной из причин такой осторожности стали опасения придворных быть опознанными, в то время как без указывания имени они могли не страшиться своего, возможно, не самого удачного, литературного дебюта, писать свободно на запретные темы, обсуждать других придворных. Но возможна и иная причина, такая как отсутствие в то время традиции ставить свое имя на сочинениях. По этой причине многие хэйанские повести и романы остаются безымянными и по сей день. Тем не менее общепризнанным фактом считаются заслуги хэйанских аристократок в области литературы, как и в создании особого языка – сленга придворных дам, который настолько прижился в их произведениях, что вошел в корпус лексики литературного японского языка. Произведения хэйанских дам содержат бесценные сведения о повседневной жизни при дворе со всеми ее сложными ритуалами и церемониалами, внешнем облике, костюмах, нравах аристократии, женских переживаниях. Показан и досуг аристократии, который включал совместное чтение известных романов, рассматривание картин, музицирование, каллиграфию, изготовление благовоний, поэтические состязания и многое другое, что требовало от них огромной подготовки и умений. Более подробно о нравах, досуге и повседневной культуре можно прочитать в романе Мурасаки Сикибу «Повесть о Гэндзи», который по праву считается энциклопедией хэйанской придворной жизни.
Мурасаки Сикибу
Гравюра Судзуки Харунобу. Около 1767 г.
Wikimedia / Art Institute of Chicago (по лицензии СС0)
Другие достижения эпохи, такие как школа японской живописи ямато-э – в противовес китайской живописи кара-э – и создававшиеся в японском стиле иллюстрации к романам и сутрам свитки-эмакимоно, также тесно связаны с литературой и общей культурой чтения и словотворчества. Со всем перечисленным тесно переплетается и идет основным фоном буддизм с его главными идеями: идеей эфемерности, идеей кармы – кармического воздаяния и возмездия, как и известия о наступлении Конца Закона, когда буддийская вера ослабнет и придет в упадок настолько, что даже от монахов не придется ждать ничего путного. Все эти умонастроения не могли не просачиваться и в произведения, создаваемые образованными и чувствительными к религии аристократами. Как писал в одной из своих ранних работ отечественный японист, историк Александр Мещеряков, буддизм для хэйанцев стал чем-то вроде субкультуры. И невозможно выразить это ощущение лучше – слово «субкультура» способно объяснить многое. Действительно, буддизм пронизывал всю духовную жизнь хэйанцев, оказывал огромное влияние на мироощущение, породил ту высокую чувствительность, которая так проявилась в стихосложении. А традиция вписывать свою судьбу, собственную жизнь, все личные невзгоды в рамки буддийских идей стала делом самым обычным, чем-то вроде устоявшегося клише, шаблона. Лучшим образцом подобного автобиографического описания можно считать «Дневник эфемерной жизни» авторства высокородной аристократки, чье имя сохранилось как Митицуна-но хаха, мать Митицуны, по имени ее сына, придворного чиновника.