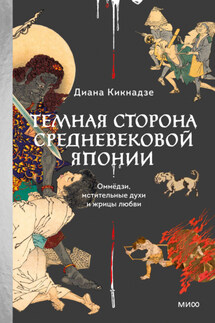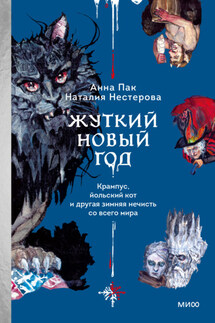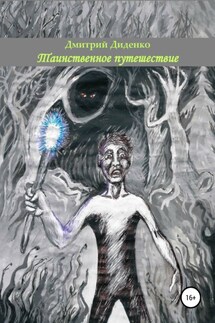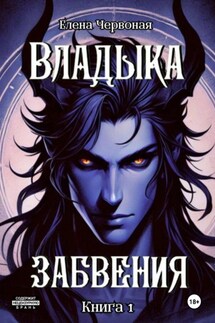Темная сторона средневековой Японии. Оммёдзи, мстительные духи и жрицы любви - страница 3
Придворный каллиграф и поэт Оно-но Митикадзэ (894–966)
Гравюра Ясимы Гакутэя. Около 1827 г.
The Metropolitan Museum of Art, New York (Public Domain)
В первый месяц нового года объявляли о назначениях на должности, и отец пребывал в радостном предвкушении, однако все вышло вопреки его надеждам, и от человека, испытавшего те же чувства, что и отец, пришла весточка: «Думал – ну вот, теперь уж… Не спал всю ночь, ждал рассвета – и такое разочарование!»
Каждый аристократ имел четкое представление о своем положении при дворе, своих правах и возможностях. Должность и ранг регламентировали всю его жизнь: цвета, узоры, ткань, фактуру и покрой костюма (вплоть до количества складок на одеждах), высоту шапки, поведение, манеры, размер жилища и ворот… Для каждого ранга был соответствующий длинный список запретов и ограничений.
Низшую ступень придворной иерархии составляли обычные писари, гонцы, курьеры, как и конюхи, ремесленники, художники, строители, швеи, повара, гадатели, астрологи, врачеватели и все те, без кого не смог бы обойтись ни один правитель.
Всего существовало десять официальных придворных рангов, первые три делились на старшие и младшие, а большинство – на верхние и нижние ступени, поэтому общее число рангов со всеми ступенями могло вырасти до тридцати. Первые три ранга считались самыми высокими, их обладатели назывались кугэ (высшие аристократы), были наиболее влиятельными политиками и пользовались всевозможными благами. Четвертый и пятый ранги также считались привилегированными, находились под юрисдикцией самого императора, считались высокими по отношению к шестому и ниже рангам, которых назначал уже не император, а Государственный совет. Обладатели низких рангов были ущемлены в своих правах и возможностях.
Императорский выезд
Иллюстрация к «Повести о Гэндзи». Середина XVII в.
Chester Beatty Online Collections (Public Domain)
Должность и положение в обществе напрямую зависели от ранга чиновника, а ранг, в свою очередь, был тесно связан с влиятельностью того или иного клана, его ролью в судьбе страны. Подобное кумовство началось с усиления позиций влиятельного рода Фудзивара еще в IX веке, который буквально породнился с императорской фамилией. Именно Фудзивара не только отменили вступительные экзамены на должности и ранги при дворе, но и стали выдавать замуж своих дочерей за императоров, становясь дедами будущих наследных принцев. В случае когда рождался внук – будущий император, Фудзивара назначали себя регентами при малолетнем внуке-императоре, смещая действующего зятя-императора. Имя Фудзивары Митинаги (966–1028) еще встретится читателю на страницах этой книги. Именно за время двадцатилетнего правления Митинаги хэйанская Япония достигла зенита в сфере придворной жизни, надельной системы и культуры.
Прочно укоренившаяся система зависимости от родственных связей крайне негативно сказалась на профессионализме придворных чиновников и политике хэйанской эпохи в целом. Сотни и тысячи талантливых администраторов и политиков не состоялись в этих ролях лишь по причине своего не самого родовитого происхождения, высокой конкуренции при дворе и зависти со стороны других, менее одаренных, соперников. Кумовство и коррупция привели хэйанскую придворную аристократию к замкнутости и сосредоточенности на самой себе, пренебрежению реальными делами государства, невнимательности к ситуации в провинциях и к проблемам простого населения, что в итоге с XII века привело страну к гражданской войне, свержению власти императора и установлению сёгуната.