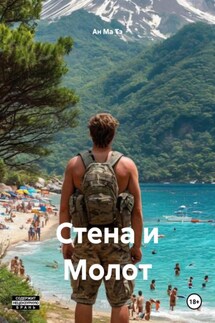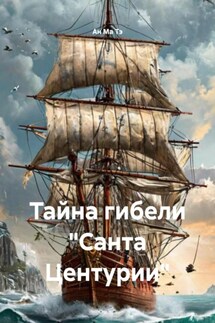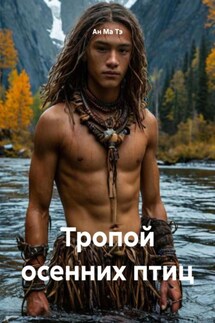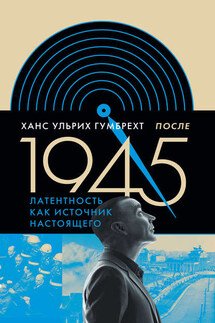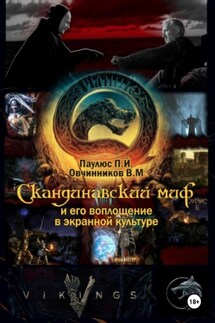Тропой осенних птиц - страница 4
В третий раз, когда он добыл рыбу, Мурхал выхватил у него острогу, и сам полез с ней в воду. Кайлу сначала вскипел – брать чужое оружие означала забрать чужую удачу – но сдержал себя. Драться с Мурхалом он не был готов. Он заставил себя спокойно сесть на берегу и смотреть, как тот бродит вдоль берега и ругается на тех, кто полез следом за ним в воду. Кайлу тогда удивился – неужели чужая острога в руках Мурхала принесёт ему удачу? Он потом в душе удивился, узнав, что, да, так действительно думали. В итоге, так ничего и не добыв, Мурхал вылез из воды и швырнув острогу на песок куда-то ушёл. А Кайлу поднял её, зашёл в воду и опять добыл рыбу. Тогда про него начали шептать, а позже и вслух говорить, что он понимает язык рыб.
Первые уроки взрослой жизни Кайлу начал получать тогда же. Нашлись те, кто стал завидовать. Были и те, кто пытался отнять острогу, хоть это и было против правил стойбища. Один раз у него отняли рыбу. Кайлу несколько раз дрался. Он приходил домой с разбитым лицом, с царапинами на теле, молча клал рыбу, и, отворачиваясь к стене хижины, засыпал. Уходить, и охотится отдельно, было нельзя – он же не взрослый охотник. И Кайлу ходил со всеми на реку и на озеро. За него в итоге заступился Мурхал, и они подружились. Подрастающая молодёжь уходила всё дальше и дальше от стойбища в поисках мест для охоты на рыб и сбора орехов и ягод. Кайлу продолжал бить рыбу и как мог, объяснял мальчишкам, то, что понимал сам. Напряжение растаяло, они взрослели и сплачивались, почти как взрослые охотники. Понемногу и другие ребята начали добывать себе рыбу. Остроги становились длиннее, наконечники крепче. На следующее лето они уже позволяли себе не приходить на ночь в стойбище. Если им удавалось набить достаточно рыбы, они разводили костёр и в принесённом глиняном горшке варили похлёбку из рыбьего мяса, лесного лука и сладких корней. Обязательно надо было иметь соль, иначе всё было не вкусно. Соль носили с собой в кожаных мешочках, её берегли и клали в отвар очень экономно. «Соль – терпение, и терпение – соль», говорили у них. Это значит, что охотник, выследивший сайсыла, должен иметь выдержку и умение, чтобы не убить его сразу, а проследив за ним, найти солончак, то место где сайсылы лижут соль. Для этого нужно было иметь терпение и мастерство, и только тогда можно было получить всё – и сайсыла и соль. Удачливые охотники приносили крупные белые куски, которые потом клали на плоский камень, и, заботливо подстелив шкуру хурты или алха, чтобы ни крупинки соли не пропало, разбивали их толстой деревянной колотушкой.
Другие же могли принести целый мешок солёной земли. Её тогла клали в большой горшок и тщательно размешав в воде, ждали пока грязь осядет, а воду аккуратно сливали в ёмкость поменьше. Так делали несколько раз, а потом эту воду кипятили и выпаривали. Вода исчезала, и на дне и стенках глиняного котелка оставался светло-серый осадок. Это была соль. Соль в камнях была вкуснее и более солёной, но она встречалась редко, больше приходилось выпаривать воду. Все дети стойбища были с этим делом хорошо знакомы. Дело было муторное, и им занимались в любое свободное время, активно привлекая к этому детей. Зато у всех была соль, и когда добывали сайлыла или двух, можно было делать запасы. Все знали, что впереди холодная зима и весенний голод.
Так случалось каждый год – голод надо было вытерпеть любой ценой. В их народе была горькая присказка – «запас на весну». Это значит, делать безнадёжное дело. Сколько ни запасай летом и осенью, сколько не надейся относительно легко пережить весенний голод, но зимой всё равно всё съедалось. Запасы прятали, экономили, берегли, но обмануть голод не удавалось почти никогда. Ели толчёную вываренную кору, долгими часами кипятили шкуры, надеясь хоть чем-то наполнить плачущий живот и дотянуть до тёплых дней. Бывало, что в самые отчаянные дни шаману удавалось вымолить у духов рыбу, алха, или даже сайсыла. Если был алх, тогда понемногу ели все. Ели и благодарили духов. Потом появлялась трава, и вылезал лесной чеснок в чащобных низинах, прилетали птицы, а дети днями напролёт лазили по деревьям вокруг стойбища в поисках птичьих яиц… и голод отступал. Доживали не все. Почти каждую весну кто-то уходил к предкам. Обычно это были старики и старухи. Иногда дети.