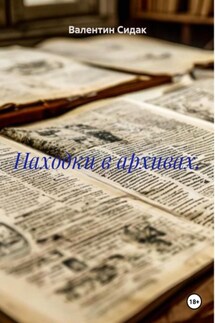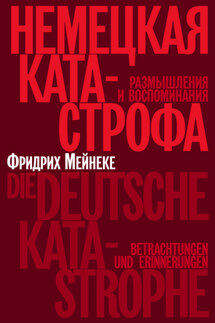Тугие узлы отечественной истории. Помощник В.А.Крючкова рассказывает… - страница 82
Но вот что касается порядка и качества выполнения этой задачи в «полевых условиях», то дела здесь обстояли гораздо менее романтично и очень даже приземленно. Для целого ряда оперативных работников резидентур, испытывающих дефицит в оперативных и информационных контактах, «ВРЯН» стал настоящей универсальной «палочкой-выручалочкой» на предмет «хотя бы чем-нибудь занять руки» и более-менее оправданно потратить денежные средства, отпускаемые на оперативные нужды.
Дело в том, что с какого-то времени по зарубежным точкам прокатилась волна очередной партийной показухи под названием «Давайте бережнее тратить за рубежом каждую добытую из недр тонну тюменской нефти!». В этой связи был выработан показатель удельной цены (или стоимости) единицы добытой оперативным работником разведывательной информации, которая была бы реализована «в Инстанции» либо самостоятельно, либо использована вместе с другими сведениями. С определенной гордостью могу теперь признаться, что добытая мною политическая информация по этому достаточно формальному показателю была самой высокой по всей парижской резидентуре, а не только по группе «ПР» – ежемесячный «процент реализации» у меня превышал 85 %. Это было неудивительным, ибо даже на свой законный семейный праздник – День рождения – у меня однажды выпало целых три полноценных оперативных мероприятия, в том числе встреча с агентом-иностранцем. Для «филонов» (а такие, к сожалению, в резидентуре тоже были) возможность посидеть в кафеюшке и слегка «позырить» исподтишка вечерком за нужным объектом наблюдения давала, тем не менее, возможность отметиться двумя строчками в ежедневной резидентурской «сводке по проблеме ВРЯН». Которая, однако, тогда почему-то приравнивалась по степени важности к реализации в Инстанции «оперативного материала в обобщенном виде».
Мне почему-то кажется, что проблема ВРЯН была всего лишь хорошо продуманной где-то на самом-самом военно-спецслужбистском верху бюрократической игрой, призванной продемонстрировать политическому руководству страны «неусыпность бдения Генштаба вооруженных сил и КГБ» перед лицом надвигающейся угрозы глобального ядерного конфликта. Слава Всевышнему, я в свое время получил возможность «вживую» регулярно знакомиться с целым рядом документов, имевшими вполне отчетливое и недвусмысленное разведывательное происхождение, в том числе с материалами радиоперехвата и дешифровки. Читая их, сразу понимаешь разницу между «действительным» и «мнимым», между твердым знанием и предположением (или допущением), между различного рода версиями и трактовками, пусть даже и основанными на достаточно серьезном и глубоком анализе специалистов и экспертов.
Уверен, что высшее военно-политическое руководство страны все же ориентировалось прежде всего на объективные, полные и достоверные сведения, полученные одновременно из нескольких независимых друг от друга источников информации, а не на досужие домыслы разного рода «консультантов ЦК» из академических структур типа ИМЭМО или ИСКАН.
В заключение хотел бы слегка подискутировать с одним патентованным и дипломированным знатоком темы «агентуры влияния» по фамилии Панарин. В период моего «юношеского увлечения глобализмом» я тогдашние научные и научно-популярные труды как самого Панарина, так и Делягина, Ивашова, Ильина, Кувалдина, Черковца и целого ряда других отечественных авторов прорабатывал очень пристально, буквально подстрочно, с карандашом в руках. В своей весьма живой и увлекательной книге под названием «Первая мировая информационная война. Развал СССР» нынешний профессор Дипломатической академии МИД РФ, доктор политологии, кандидат психологии и прочая, прочая Игорь Николаевич Панарин пишет.