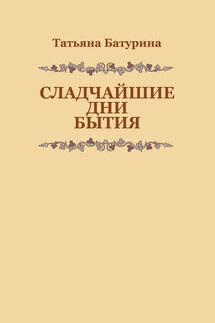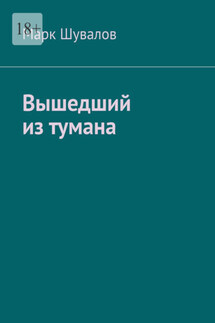Вериги любви - страница 23
А вот и тетя Настуня в белом, как всегда, платочке, заметная издали, словно белая бабочка, летает то в погреб, то в хлев, то в летнюю кухню, то по огороду. В дом редко заглядывает, да и что там, в доме, когда дня не хватает, чтобы все дела переделать на подворье. Еще и в колхоз ходит на грядки или на ток, а когда и в коровники – чистить. Про Настуню отец мой говорит: «Добрая хозяйка, у нее тесто и на воротах висит». Хорошая, мол, работница, все сразу делать успевает: и коров на выпас выгнать, и хлеб затеять.
Хлеб действительно пекла тетка замечательный, больше такого – ржаного, с блестящей корочкой, посыпанной укропным семенем, – я не едала никогда. И хоть брали буханки пшеничные и житные и в колхозном магазине, едоков-то много было, Настунины житники все другие хлебы перебивали.
Она стала учить меня доить корову, но корова дала маху – по ведру копытом, хорошо, хоть меня не задела, тем моя первая и единственная дойка и закончилась.
Хата дяди Андрея стояла на взгорке, а речка лежала под огородами далеко внизу. Ох, и любила я пробежаться по тропке среди картошки и кукурузы, сама с собой наперегонки! И сразу с мостков – в воду: некогда к речке долго присматриваться, к ее острым живым корешкам на дне да к черным пиявкам. А уж потом как хорошо нежиться на бережковой траве, загорать по любимой городской привычке! Тетя надо мной ахала, над моей загорелой худобой, в деревне ведь никто не парился на солнце специально. Бабы закутывались в платки и вечерами белели ликами за столом, рядом темнели крутого загара мужские лица. Красиво было на всех смотреть, слушать, запоминать…
Как-то поехали все вместе на дядькиной подводе далеко за село, где речное дно было песчаным. Взрослые расположились на траве, повыше, на лошадиной попоне, стали отдыхать, то есть угощаться чем Бог послал (а послал сало, да картошку, да яйца, да лук, да хлеб, да горилку), и разговоры разговаривать. Мы же с братом безраздельно завладели речкой – до гусиной кожи и озноба на солнце. Потом, укутанные в рядно, сидели рядом со взрослыми, ели и слушали.
Тетя Настуня так и не разделась, в воде только ноги помыла, и ничуть ей жарко не было, а нам сказала:
– Я такая худая, что смотреть невозможно!
Вечером я маму спросила, почему тетя «такая худая».
– Прибаливает, – был ответ, – да и дядька погуливает…
Что такое «погуливает», было неясно, но мама больше не захотела об этом разговаривать, и мне ничего не оставалось, как пойти спать. Мама тоже удалилась в спальню, дядька с отцом ушли в летнюю хату, а мы с братом ночевали опять в большой комнате, под толстым печкиным боком. Я не сразу уснула, и мне было долго слышно и видно, как в горнице молилась тетя Настуня: на коленях перед иконами, в белой рубашке.
Когда иной раз рядышком скажут про то, что в огороде бузина, а в Киеве дядька, я сразу Андрея Кондратьевича представляю, своего дядю: он хоть и не из самого Киева, но – из неподалеку… Дядька Андрей был колхозным бригадиром, ни свет ни заря – при делах, но обедать приезжал обязательно домой, заодно и коней покормить, тут уж я старалась: самые вкусные пучки «зеленки» лошадям скармливала. Лошадей я не боялась, они были спокойными и до того привычными (ведь в каждом дворе подвода была, лошадь, а то и две), что не раз я с дядькиным кнутом сидела в телеге впереди и погоняла, а дядька только поглядывал да покуривал.