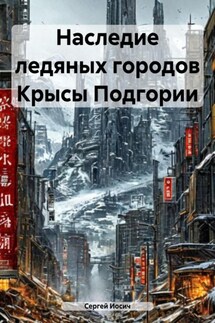Владислав Дворжецкий. Чужой человек - страница 11
Поясним для читателей нового поколения: в слове «придурок» нет ничего оскорбительного – так в лагерях называли тех счастливчиков, кто ушел с общих работ или же умудрился на них не попасть. «Придурки», в том числе и лагерные артисты, и работники культурно-воспитательной части, – привилегированная каста заключенных; чище одетая, более сытая (хотя, конечно, говорить о сытости в Омском лагпункте военного времени не приходилось: как писал сам Дворжецкий, «хлеба по 200 граммов и баланда – вода и капуста. Пухли от голода…»), а самое главное – имеющая некоторую связь с волей. Впрочем, на воле в 1940-е было не многим сытнее и лучше, чем в лагере. Дворжецкий знал, что его сын и жена голодают, и мучился, что не может ничем им помочь. Разве вот сшить для Владика два костюма: «…матросский белый (брючки, френч с погонами, фуражка с крабом) и красноармейский (защитные бриджи, гимнастерка с погонами, пилотка со звездочкой, сапожки брезентовые и даже золотая звездочка героя). Нам шили униформу, материала было много, и портные с удовольствием выполнили мою просьбу…» «За зону» отцовский подарок рискнул передать сам начальник лагерной КВЧ, конечно, немало обязанный Вацлаву славой культурной бригады ЛП № 2 и некоторым преображением лагеря вообще[24].
Среди тех «вольняшек», кого Вацлав называет своими помощниками, помимо начальника КВЧ И. Кан-Когана фигурируют имена инспекторов культурно-воспитательного отдела лагпункта Софьи Тарсис и Марии Гусаровой. Последняя не только постоянно снабжала бригаду литературой, необходимой для подготовки спектаклей, не только заступалась за зэков перед начальством, но и выполняла их частые поручения и просьбы по связи с «волей». А ведь «нельзя забывать, что лагерный режим запрещал всякую связь вольнонаемных, в том числе и начальства, с заключенными по 58-й статье»[25]! Однако, несмотря на подобное строгое запрещение, обаяние руководителя Центральной культбригады, заключенного артиста Дворжецкого, было столь действенно, что одна из вольнонаемных работниц лагеря полюбила его.
Полюбила и даже – в 1946 году – родила ему дочь.
6
Собственно, именно эта лагерная история с неизвестной вольнонаемной (Вацлав нигде не называл ее имени и должности и после освобождения с ней практически не встречался, хотя деньги и вещи для дочери передавал регулярно) и стала причиной распавшегося брака Вацлава Дворжецкого с Таисией Рэй.
Скорее всего, жену подкосила не столько измена Дворжецкого, сколько внезапно осознанный резкий контраст между ее почти нищенской жизнью на воле и феноменальной «карьерой» мужа-заключенного в лагере. Но что же делать: Вацлав был, как сейчас бы сказали, подлинным «альфа», лидером, борцом, ему было свойственно выходить победителем из всех жизненных испытаний и, выходя из них, задавать высокую (иногда чрезмерно) планку всем, кто его окружал. Оттого-то, должно быть, Владиславу Дворжецкому, его старшему сыну, и приходилось непросто: он не был таким победителем – правда, не был и побежденным. Его амплуа скорее – человек, поневоле уступивший многократно превосходящей силе, но ею не покоренный; отсюда такое точное попадание в образы генерала Хлудова и капитана Немо, этих, как писала М. Цветаева, с которой Дворжецкий был косвенно связан через вахтанговцев, «вождей без дружин»… Однако вечное несоответствие отцовскому образу-идеалу всю жизнь задевало его, заставляя стремиться к недостижимому.