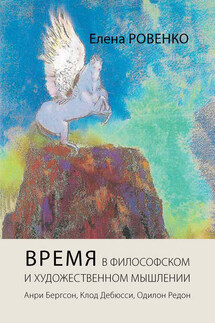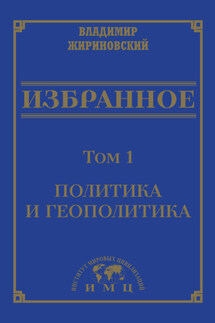Время в философском и художественном мышлении. Анри Бергсон, Клод Дебюсси, Одилон Редон - страница 34
Не менее впечатляющи метаморфозы звукового пространства в произведениях Дебюсси[152]. Никакой предзаданной «координатной сетки» (вроде линейной перспективы в живописи), никакого иерархического «деления на планы» («аванплан», «средний» и «дальний» план), никакой центрированности – ничего привычного, что в классико-романтическую эпоху согласовывалось бы с намерениями композитора на прекомпозиционном этапе (поскольку в сознании музыканта в данном случае присутствует обобщенный способ организации пространства: континуальная мелодия, опорные с точки зрения гармонии басовые линии, фактурное заполнение «среднего яруса» и т. п.). Даже у Малера ощущается «реликт» такой пространственной структуры. У Дебюсси все иначе: любой элемент может быть главным и «притягивать» остальные, независимо от своего фактического положения в пространстве, а зачастую все элементы в определенный момент могут потерять четкие контуры, и строго очерченный фактурный рельеф превратится в тернеровское марево. «…Дебюсси спасся столь же хитроумно, как Одиссей, направлявшийся к острову Гелиоса. Он держался вдалеке от Харибды функциональной гармонии и с осторожностью плыл вблизи Сциллы чистой сонористики; и поскольку дань, уплаченная этой последней, не была слишком высокой, он добрался до цели сквозь узкий пролив, разделяющий две эпохи в музыке, без того чувства изолированности, какое стало уделом позднейших смельчаков – Веберна или Эдгара Вареза, которые, будучи воодушевлены его примером, проявляли меньшую осторожность»[153].
Эта стратегия вполне может напомнить аналогичное лавирование Редона, с той лишь разницей, что последний должен был выбирать между жертвами в пользу Предметности (Харибды) и Абстракции (Сциллы), причем Абстракция в данном случае нефигуративна (не предлагает вычлененных из красочной массы, обособленных фигур), то есть выступает прямым двойником сонористики в музыке. И дань, уплаченная абстракции, была тоже довольно умеренной.
Позволю себе привести еще одну цитату из книги Яроциньского, поскольку в данном случае мне хотелось бы экстраполировать все положения этой цитаты на искусство Редона. «…Благодаря исключительной музыкальной впечатлительности, какой до него был наделен, пожалуй, только Моцарт, сонорному качеству отдельного звука или сочетаний звуков (после Дебюсси начинают говорить не об аккордах, а о созвучиях) он придал роль фактора, участвующего в создании структуры музыкального произведения наравне с мелодикой, ритмикой и гармонией, что оказалось серьезным шагом, последствиями которого полностью воспользуется под воздействием Веберна лишь новейшая музыка»