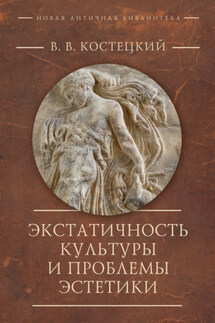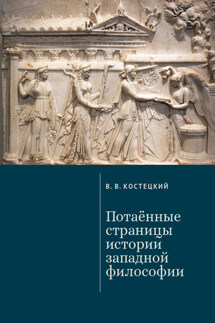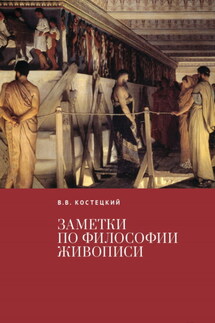Заметки по философии живописи - страница 2
Конечно, аристотелевская этика строится не только теоретически; она восходит к опыту гражданских отношений, проверенных практикой войны и утвержденных эпосом, театром и литературой. Сочинение Ксенофонта тому пример. Канонизация добродетели как таковой, причем в её «сердечности», позволила искусству четко фиксировать изгибы порочности. Изначально «характеры» рассматривались именно как стандартные виды отклонений от добродетели, отношение к которым до совершения проступков или злодеяний оставалось ироничным. В итоге проницательность в каждом конкретном случае сопровождалась иронией. Причем, ирония не должна была быть злой – её цель воспитательная. Надо заметить, что в античном мировосприятии подспудно существовала максима: «В каждом искусстве столько искусства, сколько педагогики и политики; всё остальное ремесло».
Как известно из истории античной керамики, в крито-микенский период (середина второго тысячелетия до н. э.) керамика украшалась узорами: растительным, зооморфным, геометрическим. После Троянской войны узоры приняли преимущественно примитивно-геометрический характер. Однако, с появлением полисов постепенно, но неуклонно тематика изображений на керамике переходила к антропологическим сюжетам и жанровым сценам. Участие в симпосиях (вечерних гостевых пиршествах) предполагало воспитательное воздействие даже через посуду. Керамикой не только пользовались, но её созерцали, рассматривали, обсуждали, сопровождали чтением стихов. И чем проницательнее были изображения «характеров», тем большее воодушевление они вызывали.
Живописные произведения фресковой стенописи гомеровского и даже гесиодовского периодов не сохранились, – не факт, что они вообще были. В полисе – городе мастеров – дома планировались не только под жильё, но и под мастерскую. Привычки как-либо украшать интерьер до эпохи греко-персидских войн вообще не существовало – украшали «дорогу к своему дому» [Костецкий, 2024, с. 47]. Именно по этой причине город приобретал характер парка. Античная живопись начиналась с картин, установленных в портиках на дороге к своему дому.
Понятие «картина» до появления частных, а позднее, и общественных портиков, вряд ли существовало. Росписи, иллюстрации, «наскальные рисунки» собственно «картинами» не являются. Картина предполагает, что это некий товар, допускающий транспортировку. Античные «картины» и были таким товаром, который можно было заказать, привести и вставить в стену того или иного портика, Причем, иногда в портике одну из стен специально делали сплошной ради возможности вмонтировать в неё картину.
В ранней античной живописи от фресковой техники практически отказались в пользу энкаустики. Энкаустика для товарной продукции однозначно предпочтительнее фресковой техники – она «вечна». Использование горячего воска с втиранием пигментов изобрели древние мореходы – прежде всего для сохранности судов. Если учесть, что античные «картины» предназначались для существования на открытом воздухе в любую погоду, и, кроме того, должны были радовать глаз яркостью цветов, то выбор в пользу энкаустики очевиден.
При переходе от архаики «темных веков» к периоду античности в культуре Эллады существовало довольно отрицательное отношение к «разукрашенности» – яркому признаку дворцовых царств. Не случайно в живописи, например, Полигнота палитра ограничивалась четырьмя цветами: белый, чёрный, красно-коричневый и жёлто-охристый. Однако, по мере сближения с культурой царств Др. Востока палитра античных художников постоянно пополнялась, так что ко времени правления Александра Македонского античная живопись достигла максимума в своей колоритности. Особую пикантность в цветовосприятии у греков имел синий цвет, у римлян пурпурный.