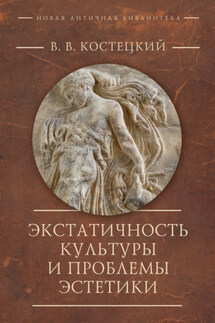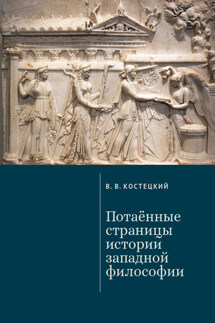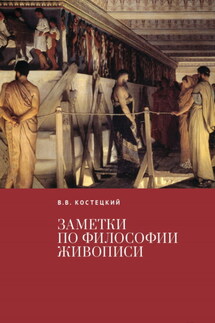Заметки по философии живописи - страница 3
Спорные проблемы цветовосприятия в гомеровский период («различали цвета древние греки или не различали») часто до сих пор принимают догматический характер. Между тем, есть объективные факты: строение органов зрения млекопитающих приспособлено к восприятию длин электромагнитных волн в оптическом диапазоне, но цветовое зрение утрачено. Ни волки, ни быки вопреки известным поговоркам цвета не различают; объяснение этому экспериментально доказанному факту связано с вынужденным переходом предков млекопитающих к ночному образу жизни в отдаленные периоды эволюции. Человек не исключение. Тем не менее, по мере развития культуры (именно культуры с учетом её трансовых ритуалов) цветное зрение человечества восстанавливается, хотя этот процесс еще далёк от завершения. Причем, у одних народов или индивидуумов он идет быстрее, у других медленнее. Например, острота цветовосприятия А.И. Куинджи значительно превышает среднестатистические нормы европейцев. Народы Севера, в свою очередь, по остроте цветовосприятия белизны превосходят все другие народы при том же строении органов зрения.
Что касается цветовосприятия в эпоху античности, то этот вопрос для живописи не был первостепенным. На первом место стоял вопрос проницательности силуэтного изображения, то есть вопрос изображения характерности лиц, поз, жестов в античном понимании «характера». Конечно, картины не предназначались непосредственно для поучения в качестве наглядных пособий – хотя эту функцию выполняли. Картины не предназначались и для украшения стен, – хотя эту функцию тоже исполняли. Назначение картин диктовалось необходимостью создания общего настроения людей, их созерцающих, – причем, не какого угодно настроения, а соответствующего духу Эллады. Техника энкаустики с её вечной яркостью цветов, изобилующих разводами, как нельзя лучше соответствовала духу Эллады. Проницательность и ирония, проявленные в уличении характеров, оказывались в фокусе патриотизма. Ни родина не пыталась обмануть своих граждан, ни граждане не пытались обмануть свою родину – и не потому, что не пытались совсем, а потому, что попытки пресекались всеми средствами культуры еще до их зарождения в подсознании.
По своей композиции античная живопись всегда сценична – иначе не передать характеры. В ней всё – сценка, зарисовка, анекдот. При этом предполагается, что зритель видит больше того, что стоит перед глазами. Он узнает ту ситуацию, с которой сталкивался сам, – и ему уже весело от того, что эта ситуация знакома не ему одному.
Узнавание – довольно специфическая в теории познания процедура. Например, при шарже или карикатуре персонажи узнаваемы при всех деформациях фактуры, а в музыке зритель посредством узнавания умудряется понимать то, что предметно вообще отсутствует. В когнитивном отношении проницательность и узнавание являются «двумя сторонами одной медали», объединенными благодаря принципу сценичности в некую «композицию». Напротив, античный театр не использует в своих постановках принцип сценичности – в нем сцена может быть вообще пуста. Изначально не было ни занавеса, ни декораций; лишь хор для речитатива и один-два актера, меняющих по ходу действия гротескные маски. В античном театре зрители, можно сказать, сидели с закрытыми глазами: внимали декламации, визионерствуя и сопереживая. Совершенно иная природа античной живописи: ни визионерства, ни сопереживаний; но узнавание, проницательность, ирония и сублимация психологии людей в общий дух родной Эллады. Архаичное разделение людей по принципу «свой – чужой» довольно убедительно проявлялось при созерцании картин – дескать, да, мы такие! (со всеми своими недостатками).