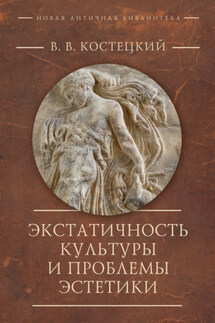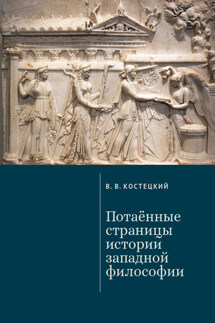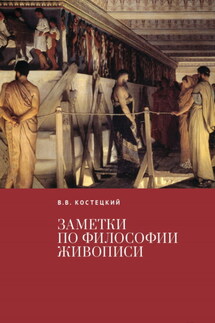Заметки по философии живописи - страница 4
Античное искусство развивалось, как известно, на конкурсной основе. Соответственно, имелись шкала оценок и критерии. Интересно, что иллюзия реальности изображения не входила в число «критериев истины». Приветствовался реализм, достаточный для узнавания – не сверх меры. Реализм сверх меры узнаваемости уже порождал скуку, сопряжённую с оскорблением («объясняют как дуракам»). Правило «умному достаточно» ставило пределы иллюзионизму натурального изображения. Как в русской пословице: «Для того, чтобы понять, не скис ли борщ, не надо съедать всю тарелку». Античная живопись не только предполагала наличие ума и жизненного опыта у зрителя, но и сама проводила границы между умом и его отсутствием как у зрителей, так и авторов. К слову сказать, эта граница имела место и в китайской средневековой живописи. Как писал знаток живописи в XII веке Чэнь Шань, «Светло-зеленые ветви с красными точками почек – не нужно много признаков весны, чтоб растрогать человека» [Завадская 1975, с. 402].
Живопись эпохи Возрождения, несмотря на заявленное возрождение, исходит из иной философии, чем античность, и ставит совершенно другие задачи. Соответственно, и разрешается иными средствами, среди которых на первое место выходят понятия «оттенок» и его живописные коннотации «рефлекс» и «светотень». Вряд ли требует объяснения тот факт, что не во всякой культуре оттенок имеет место в области кулинарии или костюма, цветовосприятия или звуковосприятия. В народных культурах цвет часто оценивается лишь по яркости и блеску без оценки оттенков: лишь бы выглядело «богато» и «нарядно». Напротив, в дворцовых культурах придворное общество остро реагирует на оттенки вкуса, запаха, звука, цвета. В бытовом отношении общество подразделяется по отношению к восприятию оттенков на «приличную публику» и «подлое сословие». Техника живописи посредством рефлексов и светотеней, безусловно, консолидировала часть общества в «приличную публику». Обострённое внимание к оттенкам с неизбежностью обернулось ростом натурализма, в иллюзионизме которого оттенки получали своё максимальное совершенство.
В общем случае внимание к оттенкам прямо пропорционально росту в обществе роскоши. В живописи Эллады цветовосприятие оттенков началось после грекоперсидских войн и продолжилось после завоевания Македонией. В римской живописи обостренное чувство оттенков приходится на конец республиканского периода [Робер, 2004]. Весьма содержательны замечания Цицерона об оттенках голоса оратора: «Ведь всякое душевное движение имеет от природы своё собственное обличие, голос и осанку; а всё тело человека, и лицо, и его голос, подобно струнам лиры, звучат соответственно тронувшему их душевному движению <…> И ни одним из этих оттенков нельзя управлять без знания и чувства меры. Это те краски, которыми разнообразят свои образы как живописцы, так и актёры» [Цицерон, 1994, с 368]. С каким вниманием отслеживает Цицерон оттенки голоса, видно из следующих его пояснений. «Гнев выражается голосом резким, возбуждающим, порывистым <…> А страх голосом подавленным, растерянным и унылым <…> А решимость – голосом напряженным, твердым, грозным <…> А радость – голосом открытым, мягким, нежным, веселым и непринуждённым <…> А подавленность – голосом с оттенком мрачной жестокости, сдавленным и приглушенным…» [Цицерон, с. 368–369]. Цицерон как зритель и слушатель уже не получает удовольствия от искусства при отсутствии точности в оттенках.