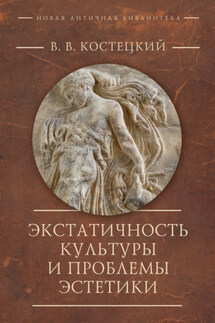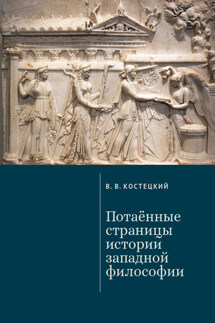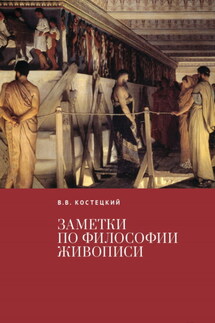Заметки по философии живописи - страница 5
В ранней античной живописи, о которой и идёт речь, цвет сам по себе воспринимался не хроматически, а в простонародной парадигме «богато» и «нарядно», что в технике энкаустики представляется довольно естественным. Тем не менее, внимание к оттенкам играло важную роль, иначе вряд ли было бы возможным говорить об искусстве. Но «оттенком» в живописи служил не цвет, а то, что эллины стали называть «характером» – некий изгиб в психике, который выражается в силуэте.
Термин «изгиб» в теории изобразительных искусств не привлекает должного внимания, между тем, именно изгиб уводит живопись от статики и чертёжности изображений. Как известно, реальное перспективное видение определяется не схождением прямых лучей в одной точке, а схождением дугообразных линий в окрестностях более, чем одной точки (два глаза, сферическая форма глазного дна, непрерывная подвижность глаз). В результате физиологии восприятия все линии фактически двоятся и прерываются, причем резкость видения обостряется именно на изгибе. У наблюдательного художника при проницательности взгляда линия становится такой же индивидуальной по отношению к «сценке», что и личная подпись. Именно поэтому линию в художественном произведении, по большому счету, «нельзя подделать». В своих изгибах линия приобретает физиогномическое значение.
Техника живописи в античности много проще новоевропейской, но физиогномики в ней больше. Дефицит «физиогномики» в европейской живописи к концу XVIII века стал раздражать «общество знати» с ее «хорошим вкусом», о чем прямо писал Д. Дидро: «Если вы не ощущаете различия между… человеком, находящемся в одиночестве, и человеком, на которого устремлены взоры, – бросьте в огонь ваши кисти» [Дидро, 1980, с. 341]. В свою очередь, Г. Гегель в конце лекций по философии живописи, писал: «В настоящее время слишком часто сталкиваешься с портретами и историческими картинами, по которым, несмотря на всё сходство с людьми и реальными индивидами, с первого взгляда видно, что художник не знает ни что такое человек, ни каков колорит человека, ни каковы те формы, в которых человек выражает то, что он человек» [Гегель, 1971, с. 275].
На гегелевский термин «колорит человека» надо бы обратить особое внимание. Что значит «колорит человека»? Речь не идёт о «колоритности натуры» подобно персонажам Рубенса. Возможно, посредством так странно выраженного понятия – «колорит человека» – лучше всего выразить философию не только античной живописи, но и всего античного искусства.
Учитывая пристрастность Гегеля к опере, есть основания полагать, что в термине «колорит человека» присутствует музыкальная составляющая, а именно тембр. Тембры музыкальных инструментов содержат те оттенки звука, которые приводят к когнитивной процедуре «узнавания». Сами по себе голоса людей в процессе речи могут быть как угодно разными и непредсказуемыми: шепелявыми, сиплыми, низкими, высокими, писклявыми, рокочущими, – но при смене настроения изменения голоса (тот же «изгиб») будут стандартными. Так, при стеснении голос становится сиплым, при радости звонким, при страхе сдавленным, при возмущении громким, при хитрости писклявым. Оттенки голоса создают эффект узнаваемости ситуации, особенно при сопровождении динамическими оттенками.
В музыковедении по поводу «узнаваемости» существуют давние споры. Одни говорят о «радости узнавания», другие о «скуке узнавания». Интересное наблюдение представил Т. Адорно: шлягер возникает при добавлении новизны в узнаваемое. Однако, с точки зрения теории познания «узнавание» лежит вне плоскости «радость или скука»; узнавание обеспечивает сам акт сознания, «перцепцию». Узнавать и знать, это разные вещи; не случайно Г. Лейбниц ввёл понятие «апперцепция». Наука подводит к знанию, искусство – к узнаванию. Узнавание порой оборачивается «инсайтом» – прозрением или озарением.