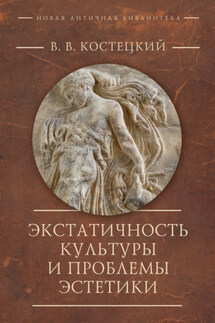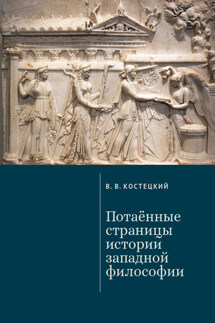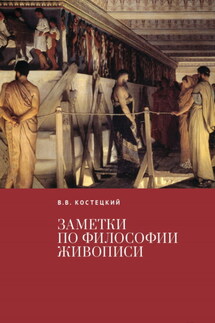Заметки по философии живописи - страница 8
В эстетике, или философии искусства по уточнению Гегеля, довольно рано сложилась традиция опускать ранний период живописи в Элладе, даже пренебрегая доступным материалом вазописи. Действительно, перспективы в изображениях нет, количество цветов и красок минимальное, оригиналы отсутствуют, состояние живописи в смысле сохранности резко проигрывает скульптуре. Да, есть имена художников и восхитительные отзывы об их произведениях. Однако, вопроса о том, чем именно восхищались современники в произведениях античной живописи, предпочитали даже не задавать.
Эстетика Г. Гегеля тоже не исключение. В своих лекциях Гегель пытался идти «от общего к частному»: от искусства вообще к отдельным видам искусства; от живописи вообще к конкретным историческим эпохам. До эпохи античной живописи Г. Гегель так и не дошел (или не успел дойти по причине преждевременной смерти во время эпидемии). Оригинальность гегелевского подхода состояла в том, что живопись была включена в романтические искусства, вместе с музыкой и поэзией. Однако, весь лекционный материал излагался в сопоставлении с христианством и скульптурой. Хореография вообще выпала из объёмистых лекций Гегеля по эстетике. Европейская живопись, начиная с Возрождения, действительно многим обязана христианской церкви, как об этом мне уже приходилось подробно говорить [Костецкий, 2022]. Что касается античной живописи, то понятно, что её истоки не имеют никакого отношения к христианству, но имеют отношение к романтизму и, возможно, к изыскам танцевальной культуры.
В монографии В. Татаркевича истоком античного искусства объявляется «триединая хорея»: поэзия, вокальная музыка и танец [Татаркевич, 1977, с. 13]. Они действительно представляли собой общую культуру дионисических празднеств. Однако, какое это имеет отношение к возникновению античной живописи, не уточняется. Остаётся согласиться с Гегелем: настроение благодаря «хорее» становилось романтичным.
Конечно, в эстетике Гегеля романтизм представляет собой теоретическое понятие, а не данность психологического толка. Романтизм следует за классицизмом в виду его преходящего характера. Для Гегеля важны именно переходы; в них немецкий мыслитель обнаруживает логику и, соответственно, ход истории. По каким-то причинам классическая стадия в любом искусстве преходяща. Назревают некие «противоречия», в результате которых классицизм сменяется романтизмом с его «задушевностью». В китайской средневековой живописи давалось иное объяснение. Су Ши (1136–1206) писал: «Профессиональные художники часто видят только детали. Вот почему произведения художников-профессионалов лишены духа. И после созерцания нескольких таких картин – они как-то надоедают…» [Завадская 1975, с. 404]. Другими словами, от созерцания множества профессиональных работ становится скучно.
Понятие «скука» отсутствует в эстетике, а зря: оно могло бы быть одним из основных понятий в философии не только искусства, но и в философии истории. Скука либо убивает и ведет к безумию (одно с другим связано), либо преодолевается случаем и приключением (одно с другим тоже связано). Если приключение не находит себе культурного решения, оно замещается (симулируется) явлением, которое Цицерон называл «наглостью»: от рукоприкладства и казнокрадства до войн и пиратства. Этот ход истории был абсолютно понятен Ф. Ницше; Г. Гегель тоже успел ввести в свои лекции по эстетике понятие «приключение». Приключение отменяет скуку и переводит его участников в состояние бодрости, что не отменяет разного рода смертельных рисков. Л.Н. Гумилёв назвал бы бодрость-в-приключении «пассионарностью», этот термин при всей его абстрактности прижился в науке.