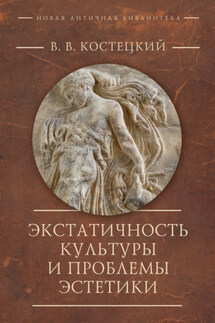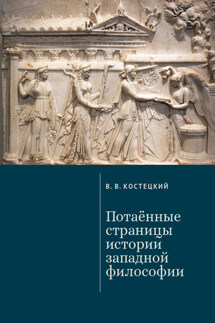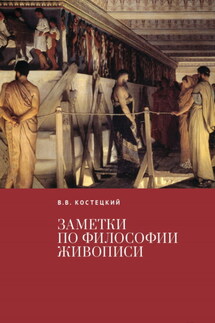Заметки по философии живописи - страница 9
В гомеровский период в Элладе шло массовое переселение с возникновением полисов – то была настоящая эпоха приключений. И сам гомеровский эпос возник не случайно, откуда бы он не заимствовался. Вся полисная культура появлялась как серия разного рода приключений: морские переходы, Олимпийские игры, театр, новые культы (дионисизм), новый тип улиц с портиками, новый тип образованности. Волне приключений общими усилиями не давали спадать под угрозой перерождения полисов в «царства» восточного типа несколько столетий.
Потенциал культуры того уникального времени определялся просто: богатые должны жить аскетично, а богатых горожан должно быть как можно больше. По мере того, как культура города справлялась с этой задачей, в любом искусстве, включая живопись, возникала та самая ситуация, когда любой художник имеет представление о том, что такое «колорит человека».
«Гомеровский период» эпохи приключений Г. Гегель обнаружил лично, причем, не в Элладе, а в истории Голландии после успехов Реформации в этой стране. Города Голландии процветали; этим восхищался еще Петр Первый, а Гегель во время своих путешествий задавался вопросом: «Где они прячут своих бедняков?», – которых в городе практически не было. Другой философ, С. Кьеркегор, приводил забавный пример: во времена путины запрещалось кормить слуг сёмгой чаще трёх раз в неделю: диетологи не советовали. Гегель писал о голландцах: «Этот смышленый, художественно одарённый народ хотел и в живописи радоваться такому здоровому и вместе с тем законному, приятному образу своей жизни; в своих картинах он ещё раз хотел во всевозможных положениях насладиться чистотой своих городов, утвари, своим домашним миром, своим богатством, почтенными нарядами своих жён и детей, блеском своих политических и городских празднеств, отвагой своих моряков» [Гегель, 1971, с. 274].
Если бы не знать, что речь идёт о Голландии, можно было бы все слова до единого в этом описании отнести к Элладе времен ранней античности. Тем более, когда Гегель уточняет свои наблюдения: «… это чувство честного радостного существования голландские художники привносят и в отношении природных объектов, и во всех своих произведениях со свободой и верностью замысла, с любовью к незначительному и мимолётному…соединяют высшую свободу художественной композиции, тонкое чувство даже побочных деталей и исключительную тщательность в исполнении» [Гегель, 1971, с. 274]. В заключение цикла своих лекций по философии живописи Гегель добавляет: «То, что свойственно всякому произведению искусства, присуще и живописи: наглядное представление о том, что такое человек вообще, человеческий дух и характер, что такое человек, и притом этот человек» [Гегель, 1971, с. 275]. В полной мере это относится и к античной живописи, которую Гегель обошел почти полным молчанием.
Голландия эпохи Великих географических открытий, избавленная от гнета Ватикана и полная богатых мастеровых горожан, оказалась на карте мировой истории в том же месте, что и Эллада эпохи возникновения полисов – таких же богатых, законопослушных и веселых людей. Голландцы явили новый тип приключения в искусстве – масляную живопись – подобно тому, как в Элладе открыли для себя энкаустику. История повторяется, и не всегда фарсом. Любопытный параллакс времени представляет живопись Ван Гога, которая вполне могла бы служить эхом античной энкаустики в морфологии мировой истории живописи.