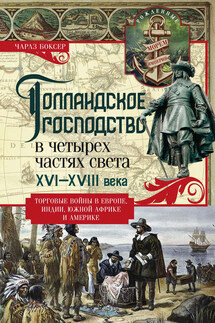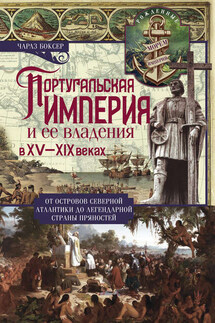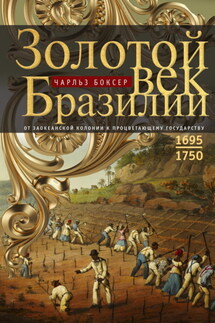Золотой век Бразилии. От заокеанской колонии к процветающему государству. 1695—1750 - страница 2
Обращение с рабами, естественно, значительно различалось в зависимости от характера их владельца и от того, насколько он держал под контролем своего управляющего и надсмотрщиков, которые часто были мулатами и сторонниками самых жестких дисциплинарных правил. Там, где рабовладелец проявлял гуманность, где рабы были одеты и накормлены и могли заводить семьи, их быт был, возможно, не хуже, чем быт рабочего класса во многих странах Европы. Дети рабов, воспитанные на таких плантациях, в случае если их продавали во взрослом возрасте к более жестоким хозяевам, часто тихо угасали и умирали или сбегали. Там, где хозяин имел садистские наклонности, рабы-мужчины отправлялись в бега или совершали самоубийство, а женщины, забеременев, предпочитали делать аборты, чтобы не воспитывать своих детей в нечеловеческих условиях.
Спорный вопрос, насколько рабовладельцы были людьми гуманными, но случаи беспричинной жестокости были достаточно часты. Они вызывали не только протест таких деятелей, как Антониу Виейра, Бенчи, Антонил и маркиз Перейра, но и начали тревожить, хотя и несколько запоздало, совесть самого короля. Обращаясь в письме к генерал-губернатору Баии в феврале 1698 г., он приказал ему провести расследование о якобы негуманном обращении с рабами в Бразилии. Если подобные утверждения окажутся правдивыми, писал он, то генерал-губернатор должен пресечь все эти зверства при помощи самых решительных мер, однако стараясь, чтобы они «не вызвали возмущения среди белого населения и не привели в итоге к беспорядкам среди самих рабов, и тогда желанная цель будет достигнута». Высшие церковные власти также постоянно обличали жестокое обращение с рабами; но, судя по частоте, с какой повторялись подобные увещевания, к ним, видимо, не очень-то и прислушивались. Бразилия продолжала оставаться в общем и целом «адом для черных».
Что касается утверждения, что Бразилия была «чистилищем для белых», то оно было справедливо в основном для образованных придворных. Так, дон Франсишку Мануэл де Мелу прочувствовал смысл этой фразы только после ссылки в те края. Для большинства же его соотечественников это, наоборот, была обетованная земля, где во многих случаях их ожидала удача. Пьянящие «ароматы Индии» уже не кружили голову людям старшего поколения, как в прошедшие времена, когда «Золотое Гоа» было в самом расцвете. Большинство португальцев, отправлявшихся на Восток в конце XVII в., были либо солдатами-новобранцами, либо приговоренными к ссылке преступниками. В Бразилии встречался подобный тип людей, но большинство иммигрантов прибыло по своей воле в поисках лучшей доли и нового дома.
Гашпар Диаш Феррейра в 1645 г. писал: «У Португалии нет более плодородных земель, которые находились бы столь недалеко и давали бы более надежное и безопасное убежище, чем Бразилия. Тот португалец, которого преследуют несчастья, эмигрирует именно на эти земли». Эмиграция из Португалии, естественно, возросла еще больше после окончания войны с голландцами. И хотя Бразилия испытывала в 1670-х гг. экономический спад, на каждом корабле, приходившем в Баию из Порту, с острова Мадейра и Азорских островов, прибывало в Новый Свет по меньшей мере 80 крестьян. Десять лет спустя неизвестный автор, хорошо знавший Бразилию, утверждал, что каждый год «около двух тысяч человек из Вианы, Порту и Лиссабона эмигрируют в Пернамбуку, Баию и Рио-де-Жанейро». Белые женщины среди эмигрантов составляли незначительное число. Но, во всяком случае, жен, сопровождавших своих мужей в этом коротком и относительно безопасном плавании, было значительно больше, чем тех женщин, кто отправлялся в длительное и опасное путешествие, продолжавшееся полгода, в Индию.