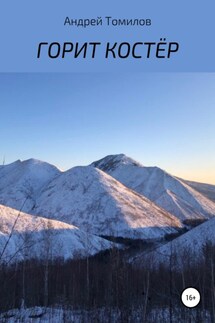Читать онлайн Наталья Платонова - Детство длиною в жизнь…
* * *
Светлой памяти родителей моих – Александры Кузьминичны и Григория Яковлевича посвящаю!
Вы то, что счастьем я зову,
Вы были в жизни –
И исчезли!
Но я судьбу благодарю,
За годы, прожитые вместе…
* * *
Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что запомнились.
П.А. Павленко
Женщины моего детства
После войны в стране было мало мужчин и много женщин. Мужчинам можно было всё Женщинам – ничего. Девочек держали в неведенье. Говорить о взаимоотношениях полов считалось стыдным. В кинопрокате шли фильмы, в которых упитанные влюблённые смеялись и взявшись за руки бежали в счастливое будущее. А потом у них появлялись дети…
В большинстве своём молоденькие девушки признаков беременности не знали. А их мамы делали большие глаза и говорили, что вот выйдешь замуж и всё узнаешь.
Слово «секс» женщины не знали. Для послевоенных женщин самое желанное слово было «замуж». Никаких претензий женщины мужчинам не предъявляли. Они рожали, растили детей, становились бабушками, а что такое секс и понятия не имели. Муж в своё время оплодотворил её, она и родила. И всю жизнь думала, что это и есть любовь. Фригидных женщин было больше, чем счастливых. Но до этого никому не было дела. Страна строила развитой социализм, и женщина была приятно‐бесплатным приложением к этому строительству. Мужья себе ни в чём не отказывали. Незамужних женщин было много, а жён мало: не нравится, а кто тебя держит?!
Этажом выше над нами жила такая семья. Он – пламенный партиец, она – служащая, дочка – прелестная девочка лет тринадцати. Муж был видный мужчина, выходец из низов. Женился он по расчёту, чтобы продвинуться по служебной лестнице. Женщина была приятной, но не красавицей, а девочка очень хорошенькой. Пока был жив тесть – ответственный партийный работник – семья жила мирно и со стороны казалось, что они счастливы. Тесть умер и бояться было больше некого. Степан Никанорович – так звали мужа, стал поколачивать жену и волочиться за каждой юбкой. Жену свою, Валентину Константиновну, сосед наш унижал прилюдно. И было видно, что ему это нравится.
Валентина Константиновна терпела молча, ни с кем не общалась и летними вечерами по-соседски с женщинами в дворовом скверике не сидела. Девочка их, Милочка, была самой хорошенькой в нашем дворе. Она училась в той же школе, где преподавала мама и я знала, что Милочка круглая отличница. У Милочки были длинные, красоты необыкновенной пепельные косы и тёмно‐зелёные, почти чёрные глаза. Девочка была обладательницей изящной фигурки и абсолютного музыкального слуха. Родители Милочку не учили в музыкальной школе. Они вообще уделяли ей очень мало внимания. Кормили, одевали и разрешали ходить в школу. Всё остальное ей запрещалось. Девочку никогда не хвалили, но ругали часто. Милочка была умной девочкой и тонко чувствовала чужую боль. У нас во дворе жил пёс Туська. После войны люди жили бедно и дворовых псов никто не кормил. Валентина Константиновна оставляла Милочке кусок хлеба с маслом и до прихода с работы родителей у Милочки другой еды не было. Милочке было жалко голодного пса, и она отдавала ему свой хлеб.
Мама! Моя милая интеллигентная мама! Сколько раз она приглашала Милочку к нам! Милочка отказывалась. Она ни у кого не обедала и не принимала угощений. Если только какую‐нибудь ириску!
Мама на правах учительницы и старшей соседки пробовала говорить с Валентиной Константиновной. Та равнодушно слушала и всё оставалось по‐прежнему. Грех так думать, но родная мать не любила своего ребёнка!
Милочка никогда никого не обижала, а если обижали её, она не ссорилась с детьми, уходила на задний двор и пела! Все арии из всех известных опер Милочка знала наизусть. Она пела и было понятно о чём она поёт. Столько души было в её пении! Милочка пела на итальянском. Но в те времена ни в школах, ни в ВУЗах итальянский язык не изучался.
Библиотекарша в маминой школе была периферийной певицей на пенсии. Милочка приходила к старой певичке и часами слушала её рассказы об опере, былой славе и ушедшей молодости…
У неё‐то она и научилась итальянскому. Библиотекарша была доброй женщиной и не жалела своих знаний. Она занималась с Милочкой и Милочкин голос звучал глубоко, а итальянский был чист!
В тот год зима выдалась лютой. Даже старшеклассники и то не каждый день ходили на занятия. А уж нам, малявкам, природа подарила ещё одни каникулы! Мы высыпались, катались с дворовой горки на ледянках и были откровенно счастливы.
У нас жила няня Дуся, деревенская девочка, приехавшая в Москву на заработки. Дуся окончила семь классов. Было ей всего четырнадцать лет, и мои родители считали, что такая молоденькая девушка должна жить в порядочной семье.
Дуся была девочка способная и моя мама готовила её к поступлению в Московскую вечернюю школу. Мне Дуся тоже нравилась. Она шила из тряпочек забавных зверюшек и не заставляла есть суп. Наш сосед, дядя Ваня Варайкин, называл Дусю Дульсинеей и ей это льстило. Дуся‐Дульсинея мечтала стать актрисой или петь в хоре. У неё было приятное сопрано и пела она народные песни трогательно и задушевно. Мама с папой всерьёз подумывали дать Дульсинее музыкальное образование.
Папу Дуся стеснялась. «Страсть какой умный, хозяин‐то», – говорила она во дворе. – Мой папаша грамоте не знают, а он молодой и книжки сочиняет. А хозяйка красивая. Учительницей работает. Девчонка у них худющая, чернявенькая, тоже всё уроки учит. Не балованная, девчонка‐то! Уважительная».
Мои родители работать Дусю не заставляли, всё больше старались, чтобы она училась. Но деньги платили приличные. Дуся их отправляла в деревню. Отец её был фронтовик и инвалид, а детей в семье пятеро, да старые родители. И мои папа с мамой попросту помогали этой семье.
С появлением у нас Дуси будильник моим родителям больше не был нужен. Как и все деревенские люди, Дульсинея вставала с рассветом. Ровно в семь часов она выходила в коридор и начинала петь одну‐единственную известную ей арию «Что день грядущий мне готовит…» Слово «грядущий» она произносила «хрюдущий» и мама отчаялась её переучивать. Папа смеялся и говорил: «В моём доме что ни женщина, то уникум». Слово «уникум» Дусю‐Дульсинею обижало. «Грех Вам, хозяин, смеяться над бедной девушкой», – говорила она. – «Чай всем известно, как папаша мой в строгости меня держали». Папа смеялся до слёз, а мама, уж не знаю в который раз, бралась объяснять нашей певунье, что «хрюдущий» надо заменить на «грядущий», а хозяин ни над кем не смеётся и что «уникум» вполне себе литературное слово! Я унаследовала от папы чувство юмора и возражала маме послушно‐воспитанным голосом: «Мамочка, в арии “хрюдущий” звучит лучше, чем “грядущий”», на что мама строго говорила: «Я с обеими поговорю вечером!»
Этот спектакль у нас с успехом шёл каждое утро. Но только не в это! Дульсинея ещё не успела пропеть своё «хрюдущий», как нас оглушил жуткий вопль! Когда‐то, в раннем детстве, я сильно обожглась и решила с перепугу, что теперь обожглась Дульсинея. Я влетела в родительскую комнату, плакала и кричала, что обожглась моя Дуня; мама бросилась к Дусе – покажи, где обожгла; Дуся заполошно кричала: «Хозяйка, горим!» Не растерялся только папа. Спокойно скомандовал: «Одеть валенки, пальто, шапки и выйти на лестницу». Что мы и сделали.
Никакого пожара не было, а кричала женщина. Она бегала вверх‐вниз по этажам, плакала, вскрикивала и говорила о какой‐то «мёртвенькой». Через плечо у неё висела мокрая тряпка, а к себе она прижимала кулёк – что‐то, завёрнутое в детскую кофточку. Первыми пришли в себя женщины. Они поняли, что в руках несчастная держит младенца. Папа тихо сказал маме: «Сашенька, вызови врачей, женщина не в себе». Женщина никому не отдавала ребёнка и ничего не могла объяснить про «мёртвенькую». В такой мороз «мёртвенькую» надо было во что бы то ни стало найти. Мужчины разбились на пары и пошли обследовать дом. «Мёртвенькой» оказалась Милочка. Она не умерла. Сердечко её ещё билось. В ситцевом халатике, заляпанном кровью, в тапочках на тонких детских ногах, она сидела на чердаке, прижавшись к тёплой трубе.
Никто в доме не знал, что Милочка беременна. То ли зимняя одежда скрывала её живот, то ли живот был очень маленьким, но беременность её не была заметна.
Милочкин вид отшиб способность соображать у всего подъезда. Когда приехали врачи и стали задавать вопросы, кто родители и сколько лет девочке – вот тогда и вспомнили, что, вообще‐ то Милочка не безродная! Ирина Васильевна, уважаемая всеми фронтовичка, вызвалась сказать Валентине Константиновне о случившемся. Долго звонили в дверь. Наконец появилась заспанная чета. Поняв о чём идет речь, глава семейства разразился площадной бранью, обзывал жену б‐дью и кричал, что он и её выбросит на мороз, вместе с её щенками… От такого онемела вся наша многоэтажная коммуналка! У здоровых мужчин, прошедших войну, тряслись руки. «С дитём, что ли, её выгнал?» – задала вопрос в никуда тётя Нюся Варайкина. Мама повернула к папе бледное лицо: «Они их на мороз выбросили?!» Папа сжал мамины плечи. Я прижалась к Дусе‐Дульсинее. Мне было не по себе. Дуся схватила меня на руки, крепко – крепко обняла, а потом сунула папе. Дуся, наша певунья Дуся! Простая деревенская девушка! Подошла к здоровенному, захлёбывающемуся злобой и матом мужику и плюнула ему в рожу!
Дом взорвался! Женщины выволокли Милочкиных родителей на лестницу и стали вершить самосуд! И дело закончилось бы плохим, если не дядя Ваня Варайкин. «Бабы! Хорош орать, да кулаками махать! Дитё куды повезли? Помрёт ведь! Ему титьку дать нады. Кто промеж вас кормяшая– то?!» Вообще‐то дядя Ваня был образованным человеком, но когда‐то он жил в деревне и в минуты сильного волнения превращался в деревенского парня. Женщины опомнились, бросили Иродов‐ родителей и обратили свой гнев на мужчин.
– Интересно, кто её обрюхатил? – Зло не то сказала, не то спросила Вера‐ вдова, с двумя девочками живущая на скудную зарплату машинистки. – Найти бы того мужика да … вырвать! Чтоб он сдох!
– Правильно, Верка! – подхватила почтальонша Нина. – На кого полез?! Ей тринадцать годков всего! Найдём…! Пущай ни сумливаица!»
Мужчины стояли молча, чувствуя вину за того, кто «полез».
Глуховатая баба Маша вышла вперёд, постояла и ткнула пальцем в дверь: «И‐их, супостаты! Такех родитилиф ни Бог создал! Гля, а фатера‐ то 13! Нечистая сила!»
Действительно, Милочкина квартира была тринадцатой!
Баба Маша продолжала: «Иде женшина, которая девчонку‐то нашла? Девки, баба‐то иде? Пущай сказываит, чиво видала?!»
Женщина была здесь. Она молчала и бессмысленно тискала мокрую простыню.
В моём детстве зимой вешали сушиться бельё на чердак или на парадную лестницу. Чердаки и парадные на зиму закрывались, там натягивали верёвки. У каждого подъезда было своё место, а каждая квартира имела свой прачечный день.
Раиса Захаровна в тапках на босу ногу и в жакетке поверх халата, полезла на чердак развешивать своё бельё. Женщина она была молодая, весёлая. В жизни ей везло. Замуж Рая вышла удачно и уж знала, что беременна. А значит, скоро родит! Утро было раннее, до рассвета далеко, но луна светила ярко и на чердаке было светло. Рая поставила таз, вынула простыню и мысленно отмеряла расстояние от верёвки до пола. И тут она увидела две детские ножки. Над ножками лунный свет заливал неживое лицо девочки из соседнего подъезда. Глаза её были закрыты. Тень от ресниц падала на зеленоватые щеки.