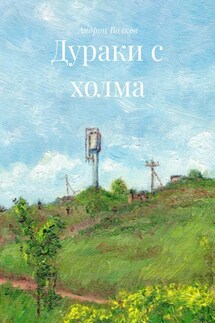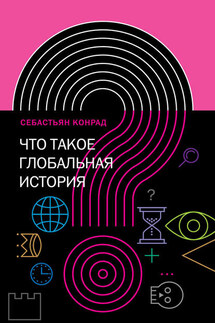Дураки с холма - страница 12
***
Родилась моя бабушка за год до Великой войны и в самом ее начале вместе с Домной и младшим братом Мишкой попала за линию фронта под Малоярославцем. Бытовая смекалка прабабушки Домны, не раз выручавшая ее, на сей раз подвела: «Немцу разве деревни нужны? Немец в города пойдет, а мы пока отсидимся».
– Ага… Только как немцу до городов-то дойти, не проходя деревень? – вздыхала бабушка, вспоминая, как они оказались в деревне Шатеево Калужской области, которую вскоре заняли немцы.
– У нас стояли офицеры, и поначалу они были добрые, хотя и подшучивали над Мишкой. «Русский, будешь себя плохо вести, пук-пук и нет тебя», – начинала свой рассказ бабушка.
Малоярославец находился в оккупации недолго, вскоре рядом с деревней появились красноармейцы в тяжелых тулупах. Первая их волна полегла почти целиком.
– Говорили, что многие из них были сибиряками, – вспоминала бабушка.
Немцы с каждым днем становились раздраженнее и злее. Однажды бабушка так громко плакала, что у какого-то офицера сдали нервы и он приказал выбросить ребенка куда-нибудь подальше. Подскочивший ординарец холодными руками схватил мою маленькую бабушку и бросил ее на пол в неотапливаемые сени. Потянулся невыносимо долгий час, после которого другие руки подхватили ее и унесли прочь из холода.
– Видно, поэтому-то всю жизнь у меня такие ноги и были, – уточняла бабушка, на ногах которой все жилы и вены выпирали из-под кожи.
Чудом ей с родственниками удалось выбраться из Шатеево, где уже начинали шептаться о карателях. До Тулы телега ехала заснеженными полями, на которых, растопырив конечности, торчали черные костяки. В городе родственник-фельдшер прямо с порога спросил у Домны: «Сестра, водка есть? Пущу». Водки не было, и пришлось бабушке с родными заночевать в той же деревне у знакомых соседей…
***
Бабушка вышла на пенсию в пятьдесят пять, поэтому все лето и небольшой кусочек осени проводила в деревне. Она работала на огороде и в саду, стояла у плиты, убирала дом и помогала деду (пусть и не без споров) во всех его начинаниях.
– Мать, ну-ка подойди, хочу тебе показать, как сделал одну вещь, – добродушно начинал дед.
– Да кто же так делает, неудобно же будет пользоваться, ты сам посмотри… – открывала рот бабушка.
– Иди отсюда и занимайси своим делом! – недовольно обрывал ее дед, тут же принимавшийся за исправление.
Скорчив многозначительную гримасу, бабушка удалялась по своим делам.
Как никто другой она умела печь плюшки и пироги. Когда дома начинались приготовления к выпечке, для меня это было равносильно празднику.
Дождавшись, пока в кастрюле поднимется тесто, бабушка аккуратно его доставала, придавала форму и выкладывала заготовки на деревянные доски. Пока они не отправились в печку, я успевал съесть несколько белых крендельков.
– Опять ешь тесто, – с улыбкой предупреждала бабушка, – потом живот заболит!
– Ничего, не заболит, – отвечал я, отправляя в рот очередную змейку теста и слизывая его остатки с пальцев.
Бабушка ставила на стол маленькую печку, формой напоминавшую сейф на коротеньких ножках. Внутри было несколько прокопченных противней, на которых и вершилось главное таинство. Отправляя заготовки внутрь, бабушка промазывала их гусиным перышком, обмакнутым в золотистое масло. Через час «сейф» открывался, и на свет являлись удивительные творения: золотистые плюшки, присыпанные сахаром, пузатые ватрушки с глазком творога, изящные крендельки, резные гребешки, похожие на солнышко из книги сказок, и птички, у которых глаз отмечала черная изюминка. Еще были пироги с капустой, мясом и яйцом, но к «существенным» начинкам я относился с опаской, они были для взрослых.