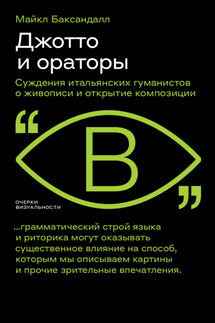Джотто и ораторы. Cуждения итальянских гуманистов о живописи и открытие композиции - страница 2
Кроме того, когда гуманисты называли себя ораторами, это не означало, что они осуществляли на практике все типы риторической деятельности Цицерона или даже Либания – они и не могли. Греческая и римская риторика сама по себе обладала двойственностью. С одной стороны, это было практическое искусство убеждения, рассчитанное на действенность в залах суда и политических собраниях; с другой стороны, она включала в себя софистический, педагогический аспект, в рамках которого риторические техники и навыки употреблялись вне соображений пользы и были ориентированы на четкость и виртуозность больше, чем на фактическую убедительность. Но хотя образовательные и прикладные аспекты классической риторики часто находились в сложном взаимодействии, идеальная для обоих случаев ситуация все еще оставалась ситуацией человека, представляющего дело перед другими. В Италии времен ранних гуманистов реальных возможностей для официального применения ораторского искусства, подобных греческим и римским судам и собраниям, существовало не много. Гуманисты брались за все имевшиеся возможности подняться на трибуну: свадьбы, похороны, инвеститура магистратов, начало академического года, – но здесь в их речах не было острой необходимости; большинство могли позволить себе показательные выступления лишь время от времени. Применительно к эпохе Возрождения риторику следует воспринимать в первую очередь как систематические упражнения в изящности речи – слова эти, вероятно, чаще можно увидеть на письме, чем услышать, – по образцам и наставлениям античных риторов. К тому же благодаря силе и многогранности классической системы и ее ключевому положению в неоклассическом образовании значение риторики этим не ограничилось; предлагаемая ею категоризация художественного опыта стала системой критики, пригодной и применимой повсеместно. Но ни один гуманист никогда не был оратором, равным Цицерону.
С этими оговорками возникает риск уничижения оригинальности ранних гуманистов до той степени, что они покажутся не более чем переходной интермедией между схоластами и гуманистами XVI века. Уже в период Позднего Возрождения об этом задумывались. Сэмюэл Дэниел писал в 1603 году:
Не будет ли самым явственным невежеством говорить – как о преемственности учености в Европе, так и об общем порядке вещей, – что «все находилось в плачевно обезображенном состоянии в те непросвещенные времена, от упадка Римской империи до тех пор, пока Рейхлин [Rewcline], Эразм [Erasmus] и Мор [Moore] не возродили свет латинского языка»? Когда за три сотни лет до них, примерно когда Тамерлан обрушился на Европу, Франческо Петрарка