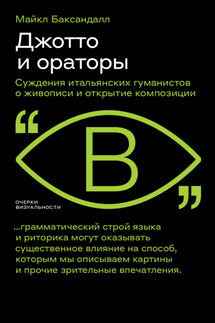Джотто и ораторы. Cуждения итальянских гуманистов о живописи и открытие композиции - страница 3
Ранние гуманисты, может быть, и использовали устаревшие руководства за неимением лучших, однако они отдавали себе в этом отчет; их способ подражать классическим образцам и впрямь отражает позднесредневековые формульные подходы artes dictaminis, но они старались относиться к делу не так механически, как нотариусы, и их образцы в любом случае различались. Прежде всего, ранние гуманисты были полны решимости снова овладеть языком Цицерона и работать в его рамках – и к делу они приступили со свежими силами и задором.
Именно это, конечно, мешает нам сопереживать им, поскольку мы не воспринимаем сочинение, имитирующее латынь Цицерона, как самостоятельную ценность; мы чутки лишь к довольно эпизодическим проявлениям гуманизма – к речи о достоинстве человека, республиканской пропаганде некоторых флорентийских гуманистов, описаниям пейзажей у Вергилия и тому подобному. Тем не менее именно в имитации Цицерона заключены сущность и героический пафос ранних гуманистов: все их силы ушли на то, чтобы возвратить языковые средства, утраченные за тысячу лет. В средневековой латыни, и особенно в национальных языках, произошедших от народной латыни, – итальянском, французском, провансальском и испанском в их богатом местном разнообразии – многие из усложненных и усовершенствованных лексических и грамматических средств классической латыни отсутствуют. Макиавелли в воображаемом диалоге с Данте спрашивал его об использовании в Божественной комедии такого большого количества латинских слов; Данте объясняет: «…perché le dottrine varie di che io ragiono, mi constringono a pigliare vocaboli atti a poterle esprimere; e non si potendo se non con termini latini, io gli usavo…»[7] И хотя перед нами взгляд на ситуацию, в которой оказался Данте, из чинквеченто, это действительно так; чтобы сказать нечто сложное и ясное, использовали латинский язык. Но тот латинский язык, на котором Данте писал свои прозаические трактаты, в том числе трактат