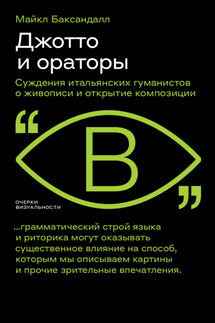Джотто и ораторы. Cуждения итальянских гуманистов о живописи и открытие композиции - страница 5
Гуманисты, о которых написана эта книга, работали между 1350‐м и 1450‐м. Во главе их стоит Петрарка, завершается этот ряд выдающимися людьми – поколением Альберти и Лоренцо Валлы, которые так или иначе оказывались слегка скованными масштабом предшественников. Петрарка (1304–1374) был образцом для подражания; он провел много времени в Провансе, Милане и в окрестностях Падуи. Тремя его почитателями были Боккаччо (1313–1375), Колюччо Салютати (1331–1406) – оба флорентийцы – и Джованни Конвертино да Равенна (1343–1408), долго живший в Падуе. Гаспарино Барцицца (ум. 1431) преподавал в Милане и Падуе, где его цицеронианство оказалось очень влиятельным. Одним из его учеников был Витторино да Фельтре (ум. 1446), основавший школу в Мантуе в 1423‐м. Византийский гуманист Мануил Хрисолора (ум. 1415) впервые прибыл в Италию около 1395 года и преподавал греческий язык во Флоренции и Ломбардии. Среди его учеников – Пьетро Паоло Верджерио (1370–1444) из Падуи, Леонардо Бруни (1370–1444), протеже Салютати во Флоренции, и Гуарино да Верона (1374–1460). Гуарино позже сам провел несколько лет (1403–1409) на Востоке и в итоге основал школу в Ферраре в 1429‐м. Его учениками были Бартоломео Фацио (ум. 1457), позже обосновавшийся в Неаполе; два венецианца – Леонардо Джустиниани (ум. 1446) и Франческо Барбаро (1398–1454); и Анджело Дечембрио (ум. после 1466), брат миланского гуманиста Пьера Кандидо Дечембрио (1392–1477), но гораздо менее выдающийся. Тремя гуманистами, в той или иной степени обосновавшимися в Римской курии, были флорентиец Поджо Браччолини (1380–1459); антиквар и историк Флавио Бьондо (1388–1463); и Эней Сильвий Пикколомини (1405–1464), ставший папой Пием II в 1458‐м. Франческо Филельфо (1398–1481), ученик Барциццы, в 1420‐х был на Востоке и затем работал во многих итальянских городах. Лоренцо Валла (1407–1457) работал в основном в Павии, Неаполе и Риме. Леон Баттиста Альберти (1404–1472), обучавшийся в Падуе и Болонье, был еще одним гуманистом Курии[8].
2. Слова
Согласно одной из точек зрения, все языки представляют собой системы упорядочивания опыта: их слова разделяют наш опыт на категории. В каждом языке это разделение происходит по-разному, и категории из лексикона одного языка не всегда могут быть легко перенесены в лексикон другого языка. Так, в английском языке имеются отдельные названия для цветов «синий» [blue] и «зеленый» [green], в то время как в некоторых других языках это иначе; лингвисты утверждают, что «синий – зеленый» – это «более дифференцированная» область опыта в английском языке, в отличие от, скажем, якутского[9]. Говорящий на якутском мог бы, конечно, высказывать суждения о синем цвете, – как и мы продолжаем приводить уточнения, говоря о небесном синем или о морском синем, – пусть его суждение и будет, вероятно, более громоздким, чем наше. Но гораздо важнее то, что в высказывании об области «синий – зеленый» английский язык настойчиво требует большей четкости. Обобщенное понятие для обозначения синего-и/или-зеленого отсутствует, поэтому обращения к языковым нюансам избежать непросто, – если только мы не скажем, что не уверены, или не решим выражаться намеренно неопределенно. Язык заставляет нас видеть различия его способом, и в этом смысле всякий язык тенденциозен. Подобным образом в классической латыни использовалось два слова –