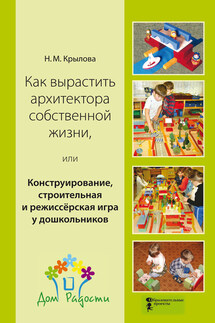Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы - страница 75
Но тогда получается, что психоз это просто симметричное, дополнительное описание реальности и что бред на самом деле не является системой ошибочных или ложных суждений о мире, как уверяет клиническая психиатрия.
Но неужели можно приписать истинностное значение и последнему из пяти приведенных высказываний, а именно «Я – Наполеон и Дева Мария». Да, это, по-видимому, можно сделать. Если человек может сказать: «Я Иван Иванович», «Я мужчина 45 лет», «Я муж Марии Павловны» и т. д., – то все это будут его субличности. Субличности, как они описаны Р. Ассаджиоли и многими другими психологами (см. [Rowan, 1991]), предполагают то, что в принципе человек может себя чувствовать или пребывать кем угодно, в том числе Наполеоном и Девой Марией одновременно. Мы можем лишь различать обыденные субличности нормального среднего человека – «Я почтальон, я слесарь шестого разряда, я Владимир Владимирович Путин» и субличностные экстраективные идентификации безумного человека.
Но можно ли сказать, что человек, утверждающий «Я – Наполеон и Дева Мария» просто ошибается? Не кажется ли, что сказать так, значит сказать нелепость? Применительно к безумию, по всей видимости, не может идти речи ни об ошибке, ни о ложном знании. Все это область нормального использования языка средним человеком.
И вот возникает вопрос: почему человеку свойственно жить в иллюзии, а не в истине, другими словами, почему здоровых людей на свете все-таки неизмеримо больше, чем психически больных (и так ли это на самом деле) и что такое вообще в этом смысле безумие, как и для чего оно достигается; разве нет иного способа достичь истины?
Люди живут «по лжи», вернее в режиме чередования истинных и ложных суждений, по всей видимости, потому, что так жить удобней. Ложь – мощный регулятор частной и социальной жизни. Витгенштейн, страдавший, как известно, патологической четностью и, соответственно, всю жизнь существовавшей на тонкой грани, отделяющей здравомыслие от безумия (см. [Руднев, 2002а]), то есть, говоря клиническим языком, был пограничной личностью (borderline person), вспоминая о своем детском опыте, писал:
Когда мне было 8 или 9 лет, я пережил опыт, который если и не был решающим в моей будущей жизни, то, по крайней мере, был в духе моего характера той поры. Как это произошло, я не помню. Вижу лишь себя стоящим у двери и размышляющим: «Зачем люди говорят правду, когда врать гораздо выгоднее». И я ничего не мог понять в этом. [McGuinnes, 1988: 47].
Итак, врать гораздо выгоднее. Когда жена спрашивает мужа: «Где ты был?», – и он отвечает: «Я был в кино», тогда как на самом деле он был у любовницы, этот опыт повседневного вранья гораздо более обычен и естественен, чем такое положение вещей, при котором на вопрос «Где ты был?», муж бы ответил: «Я был у своей любовницы». Вообще в вопросах, связанных с сексом, опыт вранья или непрямой речи играет крайне важную роль. Когда мужчина говорит девушке: «Давай поужинаем вместе», – это является косвенным приглашением к половому акту [Szasz, 1974]. Сначала поужинали, потом проводил до дому, потом она предложила ему выпить чашку чаю, а дальше уже все без слов. Здесь вспоминается фильм «Игры разума» («Beautiful mind»), герой которого, гениальный физик и при этом шизофреник, страдающий галлюцинациями и бредом преследования, именно будучи шизфреником, то есть болезненно честным, не умел проходить этот обыденный ритуал. Когда ему хотелось познакомиться с женщиной, он говорил: «Вы красивая, я хотел бы с вами спать». Сначала он получал пощечины, но один раз женщина, которой он это сказал, вышла за него замуж и терпела всю его нелегкую жизнь безумца. Это был опыт пребывания в истине.