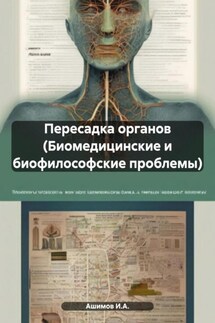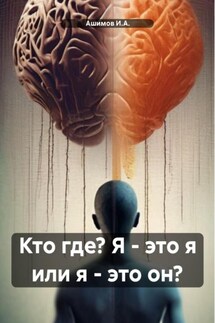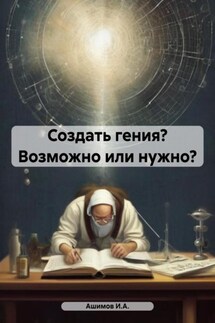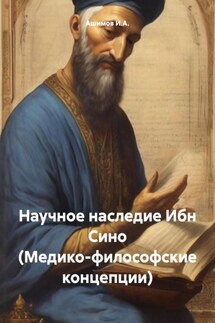Философская эссеистика - страница 13
Разумеется, мои суждения не могут составить цельную философскую платформу, но само по себе моя концептуальная модель с делегированием смерти технике, социокультурная критика Запада, постановку моральных вызов медицине и обществу, а также попытка выстроить линию гуманизации эвтаназии через дистанцирование врача, в той или иной степени важны для обсуждения эвтаназии в XXI веке. Думается, мой жанровый синтез философского трактата, научной фантастики и биоэтической публицистики послужит проблеме прояснения сути эвтаназии – наиболее спорной и трагически неразрешенной проблемы современности.
Меня не покидает чувство, что выдвину довольно дерзкий философский вызов гуманизму, традиционно ассоциируемому с медицинской профессией. Будучи врачом и ученым советской закалки считаю, что имею право противопоставить свой классический долг врача («спасать, несмотря ни на что») добровольной (активной, пассивной) эвтанизации. Однако, не могу отказаться от рационализированной логики техногуманизма, где за пределами исчерпанного жизненного потенциала наступает необходимость «мягкого отключения». Разве не актуально то, что нужно не просто модернизировать смерть, а эмансипировать врача от функции палача, передав право принятия решения алгоритмизированной технологии (биочип-гомеорегулятору), действующей в рамках общественного договора.
Читателям хочу сказать, что в романе раскрыты лишь отдельные проблемы правового и морального регулирования эвтаназии, причем, в завуалированной художественной форме. Через образы профессора Митина и его ученика Серегина пытаюсь прояснить антиномию между научным прогрессом и этической границей, показать, как гуманистическая интенция врача легко перетекает в режим технологической нейтрализации, где смерть становится «чистой процедурой». Подтекст книги в том, что обостряется контраст между различными культурными и национальными подходами к смерти – от кыргызской традиционной отчуждённости до европейской либеральной нормативизации (вплоть до детской эвтаназии).
Между тем, это особенно актуальным в эпоху глобализации норм и прав человека, межгосударственных интеграциях науки, образования, культуры. Все это исходит из того, что философия – это осмысление пределов гуманизма и новой этики в эпоху техноэволюции, а социология – это анализ социокультурной легитимации смерти и социальных ролей в биовласти, тогда как психология – изучение моральных травм у медицинских работников и дихотомии сострадания и долга, что важно для формировании новых культурологических парадигм – выявление конфликтов между архаическими и техногенными моделями смерти.
Итак, книга служит катализатором философского обсуждения. Предложенная мною альтернатива – гуманное разрешение эвтаназии без участия медиков – заслуживает внимания как этически мотивированная попытка снять со врача непосильную миссию исполнителя чужой смерти. В этом аспекте, перед читателями интеллектуальный проект, призванный инициировать дискуссию об эвтаназии как социальной, правовой, культурной и философской проблеме.
Как автор считаю, что заслуживает внимание оценка биочиповой версии разрешения эвтаназии, отметить позицию Митина и Серегина в разрешении спора о применимости нано-метода, а также их отношение к позиции Темировых – бизнесменов от науки. Чему призван нанобиочип-гомеорегулятор? С одной стороны, для поддержки гомеостаза организма и динамической оценки степени «жизнеспособности» пациента, а с другой – автоматический запуск эвтаназирующей программы, если жизнь признана «исчерпанной». Таким образом, решение о смерти делегируется алгоритму, исключая участие врачей, родных и самого пациента. Это технология нового типа «гуманной» эвтаназии – не требующей воли человека и избавляющей врачей от морального конфликта.