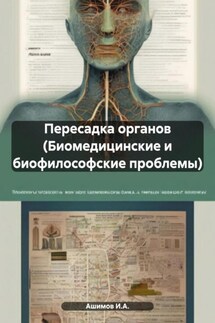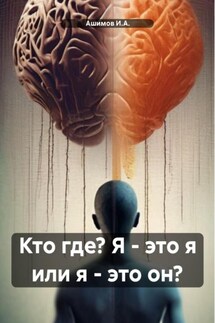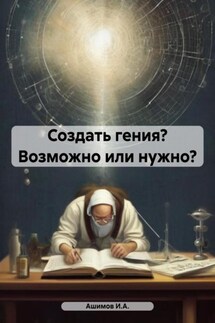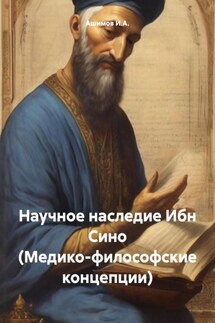Философская эссеистика - страница 14
Важно отметить, что вся технология диагностики, оценки и принятия решений построены на четких клинико-физиологических и клинико-биохимических критериях. Преимущества налицо: снятие ответственности с медиков, объективизация решения, соблюдение технологической этики. Однако, меня никогда не покидало чувство некоей сомнительной этической универсальности, так как, будучи медиком, знаю, что алгоритм не учитывает индивидуальные, культурные и религиозные смыслы жизни и смерти. Ну, а то, что биочип выступает как технологизированный «судья» и «палач», вызывает как и у всех страх утраты человеческого контроля над финальными актами бытия.
Мне, как автору интересна позиция профессора Митина, эволюция его взгляда. Изначально резко против эвтаназии: гуманистическая установка, защита классической врачебной этики, верность клятве Гиппократа. Однако, в процессе развития сюжета, находясь сам в безнадежном состоянии, он пересматривает убеждения, признавая «пользу» эвтаназирующей функции нанобиочипа. Естественно Митин в дилемме: С одной стороны, внутренний конфликт между долгом врача и реальностью страдания, а с другой – невозможность дальнейшего сопротивления техноэтическому повороту в медицине, хотя и сохраняет опасения насчёт подмены гуманизма технологией.
В итоге, Митин приходит к взвешенной, хотя и трагической уступке: если эвтаназия неизбежна, то пусть её осуществляет нейтральная технология, а не врач – с целью сохранить остатки этики медицины. Это, по сути, моя личная позиция, высказанная речами Митина. Безусловно, мне дорога и позиция Серегина. У него явствует инженерный подход, инициируя эвтаназирующую часть биочипа. Он менее чувствителен к этическим последствиям, полагаясь на алгоритмическую логику. Так или иначе его позиция – продукт трансгуманистического мировоззрения, где страдание – ошибка природы, требующая программного устранения.
На фоне вышеприведенных персонажей интересны и позиции братьев Темировых – бизнесменов от науки. Они стремятся превратить биочип в глобальный рынок смерти и контроля, а их позиция – не этическая, а прагматическая: биочип как элемент биовласти, средство управления населением и капитализации смерти. Они убеждены в том, что наука и ученые – это лишь поставщики технологий, для которых моральный аспект эвтаназии вторичен – главенствует расчет, контроль, управление. Если у Митина гуманизм и внутренний конфликт, то у Серегина – скепсис к гуманизму, утверждение идей постгуманизма и рационализации, тогда как у Темировых – утилитаризм и презрение к моральным ограничениям.
Итак, как автор биочиповой модели эвтаназии преподношу ее как технологическую провокацию, выявляющую пределы гуманизма в эпоху алгоритмического управления. На мой взгляд, Митин – это совесть медицины, находящаяся в кризисе, Серегин – представитель новой научной безэмоциональности, а Темировы – олицетворение научного цинизма и коммерции. Уверен в том, что конфликт между этими позициями делает книгу площадкой для дискуссии о будущем медицины, этики и человека в цифровую эпоху.
Интересна само по себе проблема биовласть. По М. Фуко, биовласть – это особый тип власти, нацеленный на управление биологическим существованием человека, включающий дисциплину тела и регулирование популяций. Биочипизация – это технологическая практика вживления электронных чипов в тело человека, обеспечивающая сбор, передачу и обработку биометрических, поведенческих и медицинских данных. Биочип мною использован как инструмент принятия решений о жизни и смерти, воплощающий в себе функцию биополитического контроля.