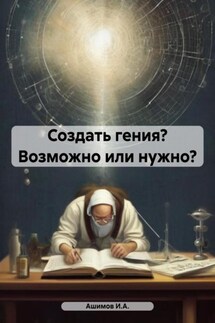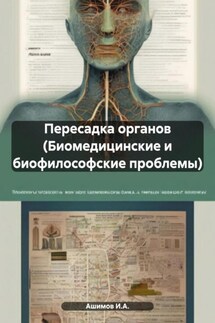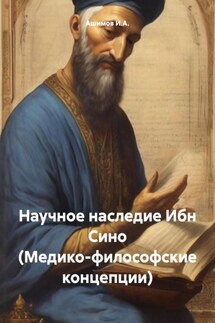Философская эссеистика - страница 15
Каковы же прогнозы развития биовласти через биочипы? Заслуживают внимание следующие аспекты: во-первых, тотальная связность, когда все индивиды подключены к цифровым системам через биочипы – здоровье, местоположение, поведение, финансы контролируются в режиме реального времени; во-вторых, алгоритмизация, когда нейросеть и биочипы начнут принимать критические решения – от назначения лечения до эвтаназии; в-третьих, смещение моральной ответственности, когда решения о смерти и жизни передаются машинам, снимая моральную нагрузку с людей; в-четвертых, государственно-корпоративный контроль, когда создаётся невидимая наднациональная власть над телом и судьбой человека.
Вот основные риски: во-первых, цифровая несвобода, когда индивид становится «прозрачным» – утрата приватности, свободы воли и личной автономии; во-вторых, социальная сегрегация, когда люди делятся на «чипированных» и «нечипированных», доступ к благам – по цифровому профилю; в-третьих, алгоритмическая дискриминация, когда ошибки или предвзятость в коде могут определять судьбы людей, включая смерть; в-четвертых, возможность отключения, когда блокировка чипа = блокировка личности: без доступа к деньгам, медицине, передвижению; в-пятых, тотализация власти, когда появление суперструктур («Зверь») с правом абсолютного управления жизнью населения.
М.Фуко ввел понятие биовласть – «власть, которая управляет не законами, а жизнью». Он прогнозировал, что медицина и технологии станут основными рычагами власти в будущем. Ю.Н.Харари предупреждает об эпохе господства данных, когда люди превратятся в «хакнутые животные», которыми управляют алгоритмы, а биочипизация приведёт к концлагерю без заборов: контроль через интерфейс тела. Н.Бостром позитивно оценивает трансгуманизм, но осознаёт риски тотального контроля и неравенства и указывает на необходимость этических рамок и права на отключение от систем. Ш.Зубофф считает, что биочип – это предельное выражение капитализма наблюдения: человек становится сырьём данных и тогда приватность заменяется предсказуемостью, а свобода – автоматическим управлением.
Какова же роль общества и науки в ответе на вызов? На мой взгляд, необходимые следующие меры: во-первых, этические регламенты для использования биочипов и ИИ в медицине и политике; во-вторых, государственный контроль над алгоритмами, исключение приватизации биометрии; в-третьих, гуманитарное сопровождение технологий: философы, социологи, юристы должны участвовать в разработке стандартов; в-четвертых, право на отключение и «телесный суверенитет» как новое право человека. Итак, биочипизация как форма биовласти – не фантастика, а возможная реальность ближайших десятилетий. Полагаю, что главный риск – не в чипе, а в утрате гуманистического ядра общества, которое делегирует машинам право решать, кто достоин жить.
В книге главным контекстом является то, что эвтаназия – это не просто юридическая или медицинская процедура, а экзистенциальная дилемма, затрагивающая фундаментальные категории философии: жизнь и смерть; страдание и достоинство; свобода воли и моральный долг; гуманизм и утилитаризм. Деонтологический подход утверждает, что жизнь священна, её прекращение – недопустимо вне естественного хода событий (И.Кант, Т.Аквинский), тогда как утилитаризм – страдание – абсолютное зло, его устранение (вплоть до смерти) – благо (Д.Бентам, П.Сингер). Экзистенциализм утверждает, что свобода человека включает право распоряжаться собственной смертью (А.Камю, Ж.-П.Сартр), тогда как биоэтика – решение должно учитывать автономию, качество жизни и согласие личности (Б.Чилдресс, Т.Бошам). При этом основным философским конфликтом является: «эвтаназия как акт милосердия ↔ эвтаназия как узаконенное убийство».