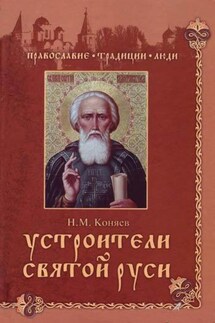Читать онлайн Николай Коняев - Гибель Николая Рубцова. «Я умру в крещенские морозы»
Около четырех часов ночи привезли пьяного мужика, ломившегося в двери почтового отделения.
– Я ничего! Мне письмо надо спросить! – шумел он, но потом, пригревшись, затих.
Дежуривший милиционер составил протокол и, убрав документы, зевнул. Похоже было, что больше ничего не произойдет в это дежурство, выпавшее на крещенскую ночь...
Сонной дымкой затягивало мутновато-синие стены, крашенный коричневой краской барьер...
И тут хлопнула дверь, и в белом морозном воздухе возникла в отделении женщина. Она была в валенках, на голове – туго замотанный платок.
– Арестуйте меня... – сказала она и тяжело вздохнула. – Я человека убила.
– Когда?
– Сейчас... Дома.
– Дома?!
– Да... Я жила у него...
– Т-так... – сказал милиционер. – Фамилия как?
Женщина назвала себя.
– Ясно... А убитого как звали?
– Рубцовым... Николай Михайлович Рубцов...
Милиционер, отгоняя сон, провел рукою по лицу, словно бы хотел перекреститься.
Потом взглянул на часы.
Было 5 часов утра 19 января 1971 года.
Глава первая
Аленький цветок
Рубцову было шесть лет, когда умерла мать, и родной отец сдал его в детдом.
Шестнадцать, когда он поступил кочегаром на тральщик...
Он служил в армии, вкалывал на заводе, учился...
На тридцать втором году жизни впервые получил постоянную прописку, а на тридцать четвертом – наконец-то! – и собственное жилье: крохотную однокомнатную квартирку.
Здесь, спустя два года, его и убили... Вот такая судьба.
Первую книгу он выпустил в 1965 году, а через двадцать лет его именем назвали улицу в Вологде.
Ему исполнилось бы всего пятьдесят, когда в Тотьме поставили ему памятник.
И это тоже судьба.
Как странно несхожи эти судьбы... И как невозможны они одна без другой!
1
«Николай Рубцов – поэт долгожданный. Блок и Есенин были последними, кто очаровывал читающий мир поэзией – непридуманной, органической. Полвека прошло в поиске, в изыске, в утверждении многих форм, а также – истин... Время от времени в огромном хоре советской поэзии звучали голоса яркие, неповторимые. И все же – хотелось Рубцова. Требовалось. Кислородное голодание без его стихов – надвигалось…»
«Стихи его настигают душу внезапно. Они не томятся в книгах, не ждут, когда на них задержится читающий взгляд, а, кажется, существуют в самом воздухе. Они, как ветер, как зелень и синева, возникли из неба и земли и сами стали этой вечной синевой и зеленью…»
«Стихи Рубцова выражают то, что невыразимо ни зримым образом, ни словом в его собственном значении... Образ и слово играют в поэзии Рубцова как бы вспомогательную роль, они служат чему-то третьему, возникающему из их взаимодействия…»
Эти высказывания Глеба Горбовского, Александра Романова, Вадима Кожинова – лучшее свидетельство тому, как непрост разговор о поэзии Рубцова. Стоит только исследователю попытаться выразить ее суть, как тут же, отказываясь от литературоведческой терминологии, вынужден он оперировать понятиями и категориями самой жизни.
Обманчива и простота рубцовской лирики.
Анализируя ее, легко обнаруживаешь закономерности и приемы, которыми пользуется поэт, но результат, достигаемый этими приемами, не закономерен, не достигаем данными приемами.
Судите сами...
Рубцов словно специально пользуется неточными определениями. «За расхлябанным следом», «пустынные стога», «в деревне мглистой», «распутья вещие»...
Что это? Языковая небрежность? Или поиск подлинного, соответствующего стиховой ситуации смысла, освобождение живой души слова из грамматико-лексических оков?
А вот другой пример...
Наверное, ни у кого из поэтов не найдется столь многочисленных повторов самого себя, как у Рубцова. Кажется, он забывал созданные и уже зафиксированные в стихах образы, многократно повторяя их снова и снова:
Все эти «свадьбы», эти «хоры», рассыпанные по стихам Рубцова, право же, сразу и не перечислишь...
Что это? Самоповтор? Или «причастность к тому, что, в сущности, невыразимо»? Ведь приближение потусторонних сил столь же естественно и обычно в поэзии Рубцова, как дуновение ветра или шум осеннего дождя, поэтому даже и не осознается как повтор...
Еще более загадочной выглядит взаимосвязь поэзии Рубцова и его жизни.
По стихам Николая Михайловича точнее, чем по документам и автобиографиям, прослеживается его жизненный путь. И не только тот, который уже был пройден поэтом к моменту создания стихотворения, но и события будущей жизни, о которой Рубцов мог только догадываться...
Конечно, многие настоящие поэты угадывали свою судьбу, легко заглядывали в будущее, но в Николае Рубцове провидческие способности оказались развиты с такой необыкновенной силой, что, когда читаешь написанные им незадолго до смерти стихи:
охватывает жутковатое чувство нереальности. Невозможно видеть вперед так ясно, как видел Рубцов! Хотя – сам Рубцов говорил: «Мы сваливать не вправе вину свою на жизнь. Кто едет, тот и правит, поехал – так держись!» – отчего же невозможно? Очень даже можно, если учесть, что Рубцов и жил так, будто писал самое главное стихотворение, и, совершенно точно зная финал, ясно представляя, что ждет впереди, даже и не пытался что-либо изменить...
Потому что не прожить свою жизнь, не пройти назначенный ему Путь до конца он не мог, да и не хотел...
2
О родителях Николая Рубцова известно немного...
Отец поэта – Михаил Андрианович Рубцов родился в 1899 году в деревне Самылково на Вологодчине. Здесь он и окончил трехлетнюю сельскую школу в селе Спасском.
В 1917 году ему было всего восемнадцать лет, и когда большевики в числе других миллионов крестьянских парней мобилизовали его на Гражданскую войну, он с готовностью воспринял все, чему учили его комиссары.
Вернувшись из Красной Армии, Михаил Андрианович устроился работать председателем правления Биряковского общества потребителей.
С его фотографии, сделанной в эти годы, на нас смотрит бравый, знающий себе цену парень в белой косоворотке. Во взгляде его сквозит вера в разумность и полезность будущей жизни.
В 1921 году Михаил Андрианович женился на Александре Михайловне Рычковой.
Жили они по-прежнему в Самылкове.
Здесь, в Самылкове, появились первые дети.
Всего у Рубцовых до рождения Николая были три дочери – Рая, Надежда, Галина – и сын Альберт.
Еще до рождения Николая его старшая сестра, Рая, умерла.
Еще до рождения Николая Михаил Андрианович вступил в партию и возрос до должности начальника Отдела рабочего снабжения (ОРС) Емецкого леспромхоза.
Еще до рождения Николая Рубцовы поселились в Емецке[1], в красивом доме, развернутом фасадом к старинному – из Архангельска в Москву – тракту.
По задворкам дома текла река...
В этом доме на «рыбном тракте» и родился 3 января 1936 года Николай Михайлович Рубцов...
Отцу его тогда уже исполнилось тридцать шесть лет.
Был Михаил Андрианович, как вспоминали сослуживцы, компанейским человеком. Часто у Рубцовых, хотя и размещалась семья в двух проходных комнатках, останавливались на ночевку наезжавшие в Емецк из лесопунктов командированные. Место находилось для всех.
Михаил Андрианович любил музыку. Когда возвращался со службы, первым делом заводил патефон...
По общему коридору жили еще три семьи...
Особенно весело было в праздники...
Гуляли сообща. Вначале в одной квартире, потом переходили в другую...
Не случайно одно из первых воспоминаний Николая Рубцова как раз с застольем и связано – он ползет по длинному праздничному столу, загроможденному грязными тарелками и рюмками с недопитым вином...
Михаилу Андриановичу такая жизнь нравилась.
Он считал, что «завоевал» себе эту жизнь на Гражданской войне, заслужил ее всей своей исправной службой советской власти.
Тем более что его любовь к застольям и веселью вроде бы не мешала ни службе, ни карьере.
Вскоре после рождения Николая Михаила Андриановича назначили помощником начальника райтрансторгпита по кадрам, и семья переехала в Няндому.
И вот здесь едва не пресеклась не только карьера, но и сама жизнь Михаила Андриановича...
3
«Первое детское впечатление, – рассказывал Николай Михайлович Рубцов, – относится к тому времени, когда мне исполнился год...
Помню снег, дорога, я на руках у матери. Я прошу булку, хочу булку, мне ее дали. Потом я ее бросил в снег. Отца помню. Мать заплакала, а отец взял меня на руки, поцеловал и опять отдал матери... оказывается, это мы отца провожали…»
В этом рассказе о проводах отца – а провожали его в тюрьму! – точно переданы детские ощущения: «прошу булку, хочу булку... бросил в снег», а вся сюжетная канва – смущает нестыковка деталей! – скорее всего додумана взрослым Рубцовым.
Впрочем, вспоминая о своем отце, поэт вообще менее всего заботился о фактах... И это относится не только к его устным рассказам и стихам, но и к официальным анкетам и биографиям.
Канцелярская выверенность свидетельств в этом вопросе всегда угнетала его.
В тюрьме Михаил Андрианович провел под следствием всего год и был выпущен «подчистую», а вскоре после возвращения из тюрьмы пошел на повышение...
Семья арест Михаила Андриановича пережила труднее.
Сразу после ареста посреди зимы пришлось перебираться из хорошего дома в барак, стоящий почти вплотную к железнодорожной насыпи. Здесь и умерла старшая сестра, Надя.
Надежду Рубцов любил...
Он запомнил, как выходит она к гостям в нарядном платье, в блестящем монисто на высокой шее, чтобы показать, чему научилась в кружке пения...
«Монисто, – вспоминал Рубцов, – очень шло к ней, придавало ей еще красоты и тихо звенело во время танца. И голос ее звенел, и слова непонятной песни тоже звенели, и всю жизнь сопровождает меня, по временам возникая в душе, какой-то чудный-чудный, тихий звон, оставшийся, наверно, как память об этом пении, как золотой неотразимый отзвук ее славной души».
Живая, общительная, Надежда попала в деревню на сельхозработы, простудилась там и заболела менингитом.
Николай Рубцов часто вспоминал, как мучительно переносила сестра нестихающую боль и, когда заговаривали с ней, отворачивалась к стене...
Наде было шестнадцать, когда она умерла. Ее – Михаил Андрианович к тому времени уже был восстановлен в партии и в должности – хоронили как комсомолку...
Николай Рубцов запомнил красный гроб, множество венков, скопление народа...
На всю жизнь осталась в нем эта боль утраты, всю жизнь считал он, что, если бы Надежда не умерла так рано, не было бы в его жизни того безысходного сиротства, через которое предстояло пройти ему...
4
Как явствует из воспоминаний сестры поэта, Галины Михайловны Рубцовой[2], мать их была глубоко верующим человеком.
Александра Михайловна любила ходить в церковь и даже пела там в хоре.