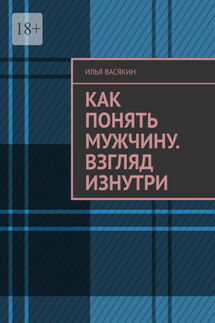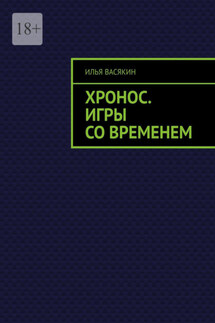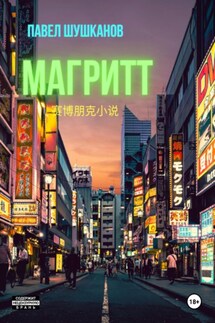Хронос. Игры со временем - страница 5
Снаружи, по гигантскому окну-стене, стекали широкие, медленные, как слезы каменного идола, потоки дождя. Они сливались, разбивались, рисовали абстрактные, мокрые узоры. Лео смотрел на них, пригвожденный к полу тяжестью откровения. Ему почудилось, что это струятся не капли воды, а миллионы крошечных песчинок. Песчинок его последних секунд. Песчинок, утекающих в бездонную пасть Хроноса, в его вечные песочные часы.
Часть V: Последний Мазок Правды
Он не помнил, как выбрался из утробы Башни, из каменных объятий левиафана. Как брел по затопленным улицам, не чувствуя холода дождя, не замечая проезжающих машин, гудков клаксонов, криков. Как нашел дорогу обратно в свою старую, пахнущую крысами, туберкулезом и дешевой лапшой студию в Чайнатауне. Дверь была не заперта. Здесь пахло настоящей краской, едким скипидаром, едкой плесенью и… жизнью. Грязной, горькой, неудавшейся, но своей. Не купленной. Он скинул мокрый, омерзительно дорогой, чужой халат, бросил его в угол, как окровавленную тряпку после убийства. Надел старую, пропитанную потом, вином, масляной краской и отчаянием до жесткости картона робу. Ткань грубо терла кожу, царапала – это было больно, неприятно и… честно. Подошел к единственному нетронутому мольберту, заваленному тюбиками, тряпками, папками с эскизами его прежней, никчемной жизни. Чистый холст, пыльный по краям. Краски в тюбиках, засохшие на горлышках, как запекшаяся кровь. Кисти в жестяной банке из-под кофе, щетина посеченная, жесткая, как проволока.
Он начал писать. Не шедевр для вечности. Не крик отчаяния для продажи. Портрет того, кем был до Хроноса. Пьяница. Неудачник. Человек с дрожащими руками и погасшим взглядом, но с искрой чего-то настоящего, некупленного, неотчуждаемого внутри. Себя. Настоящего. Каждый мазок был актом отчаяния и… освобождения. Возвращения. Бунта. Он вонзал кисть в краску, швырял ее на холст, растирал пальцами, царапал мастихином, плевал на поверхность, стирал тряпкой и снова лез в гущу. Коричневые, грязно-зеленые, землистые охры, грязные серые тона. Никакого ультрамарина безумия, киновари славы. Правда грязи. Правда поражения. Правда жизни, которую не смогли отнять до конца.
В дверь постучали. Не резко, как тогда утром, а глухо, устало, словно костяшками об дерево гроба, в который уже опустили покойника.
– Карвер? – голос Ремарка звучал хрипло, прерывисто, с одышкой из-за двери. – Они знают. Сканеры в Башне все видят. Твою ярость. Твой… бунт. Они идут. Сейчас. Тени уже на лестнице. Я слышал их шаги… Мерные. Как тиканье часов Судного дня. Выходи со мной… или исчезнешь здесь. Навсегда. Как Лора.
Лео не обернулся. Его кисть, дрожа теперь не от страха, а от ярости и странного, очищающего спокойствия, вывела последнюю деталь на потрепанном, но живом лице человека на холсте: глаза. Молодые. Усталые. Полные неугасшей, знакомой боли и… странного, горько-трезвого, почти просветленного понимания. Глаза, которые еще могли видеть правду. Глаза, которые не продал. Глаза, которые помнили запах скипидара и вкус дешевого вина, а не шампанского с презрением.
– Знаешь, Ремарк? – его голос был спокоен, почти легок, как у человека, сбросившего тяжкий, невидимый груз веков. – Лучше быть никем… с грязью под ногтями и краской в душе… – он мягко, почти нежно положил кисть на край банки, как кладут оружие после последнего боя, – …чем пустым местом в золотой раме с биркой «гений». Пустой рамой на стене вечности, в которой отражается лишь черная бездна Хроноса.