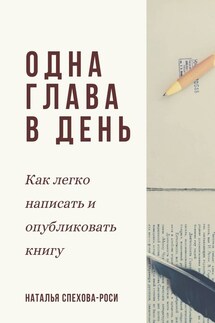Историография и источниковедение в культурологическом исследовании (Культурологические исследования’ 10) - страница 16
Поднятые в работах Хальбвакса вопросы социальной обусловленности памяти, ее общественных функций, а также способов существования прошлого в настоящем остаются актуальными до сих пор. В 60-70-е гг. XX века разработками этих проблем занимались: английский историк Э. Хобсбаум, который ставил вопрос о том, как и каким образом прошлое трансформируется и влияет на настоящее и будущее; французский философ М. Фуко, который разрабатывал понятия «архив» и «историческое априори» в работе «Археология знания»[53], социологи П. Бергер и Т. Лукман, утверждавшие активность личности в формировании т.н. «объективной реальности», спорившие с Хальбваксом по поводу роли социума в формировании памяти[54]; немецкий философ Ю. Хабермас, в работах которого память исследуется как составляющая «жизненного мира».
Теория Хальбвакса получила развитие в конце XX века в работах немецкого египтолога Яна Ассмана. В труде «Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности» историк разделяет два понятия – «коммуникативную» и «культурную» память. Коммуникативная память – память о недавнем прошлом в рамках индивидуальных биографий. Она слабо оформлена и возникает естественным путем в результате повседневной жизни. Коммуникативная память существует, по Ассману, примерно 80-100 лет, т.е. является памятью поколения, а ее носителем выступает каждый из переживших определенные исторические события. Культурная память, в отличие от коммуникативной, является институциализированной формой памяти, она учреждена и специфически оформлена (например, посредством праздничных ритуалов), содержит в себе предысторию общества или его мифическое прошлое, а ее носителями являются специалисты. «Прошлое скорее сворачивается здесь (в культурной памяти) в символические фигуры, к которым прикрепляются воспоминания. Для культурной памяти важна не фактическая, а воссозданная в воспоминании история, только она. Можно сказать также, что в культурной памяти фактическая история преобразуется в воссозданную воспоминанием, т.е. в миф. Миф – обосновывающая история, история, которую рассказывают, чтобы объяснить настоящее из его происхождения. Через воспоминание история становится мифом. Это не делает ее нереальной, напротив – только так она становится реальностью, в смысл постоянной нормативной и формирующей силы»[55]. Таким образом, культурная память является основанием для идентификации группы как сплоченной общности; кроме того, она констатирует общность происхождения членов группы. Я. Ассман выделяет еще одну важную характеристику культурной памяти – она сакральна, «благодаря культурной памяти мир повседневности дополняется, или расширяется, измерением отвергнутого и потенциального, так что память возмещает урон, претерпеваемый бытием от повседневности. Благодаря культурной памяти человеческая жизнь приобретает двухмерность, или двувременность, сохраняющуюся на всех стадиях культурной эволюции»