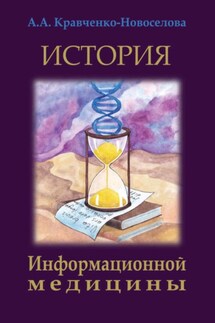История Информационной медицины - страница 8
«С о к р а т. Пожалуй, в искусстве врачевания те же самые приемы, что и в искусстве красноречия.
Ф е д р. Как так?
С о к р а т. И тут и там нужно разбираться в природе, в одном случае – тела, в другом – души, если ты намерен пользоваться не навыком и опытом, а искусством, применяя в первом случае лекарства и питание для восстановления здоровья и сил, а во втором – беседы и надлежащие занятия, чтобы привить уменье убеждать или другое какое-то прекрасное качество.
Ф е д р. Наверно, это так, Сократ.
С о к р а т. Думаешь ли ты, что можно достойным образом постичь природу души, не постигнув природы целого?
Ф е д р. Если должно в чем-то верить Асклепиаду Гиппократу, то даже природу тела нельзя постигнуть иным путем.
Со к р а т. Это он прекрасно говорит, друг мой. Однако, кроме Гиппократа, надо еще обратиться к разуму и посмотреть, согласен ли он с Гиппократом.
Ф е д р. Я полагаю.
Со к р а т. Итак, посмотри, что говорит о природе Гиппократ, а что – истинный разум. Разве не так следует мыслить о природе любой вещи: прежде всего, простая ли это вещь – то, в чем мы и сами хотели бы стать искусными и других умели бы делать такими, или она многовидна; затем, если это простая вещь, надо рассмотреть ее способности: на что и как она по своей природе может воздействовать или, наоборот, что и как может воздействовать на нее? Если же есть много ее видов, то надо их сосчитать и посмотреть свойства каждого (так же как в том случае, когда она едина): на что и как каждый вид может по своей природе воздействовать и что и как может воздействовать на него.
Ф е д р. Пожалуй, это так, Сократ.
С о к р а т. Иначе рассмотрение походило бы на блуждание слепого»48.
Таким образом, уже при жизни Гиппократа его учение обращало на себя внимание не только медиков, но и самых широких кругов своим философским диалектическим подходом.
Именно этот диалектический подход и широта приложения взглядов, основанная на многолетнем практическом опыте, сохранили актуальность учения Гиппократа вплоть до наших дней. На протяжении истории всякий раз, после вторжения в медицину новых смелых и часто опасных для больных теорий и средств, медицина должна была возвращаться к Гиппократу и к его основному завету: «Прежде всего – не навредить». По оценке В.П. Карпова, «медицина кроет в себе внутренние противоречия, к которым она периодически возвращается в своем диалектическом развитии, каждый раз обогащаясь новым содержанием. Это, с одной стороны, стремление создать рациональные основы врачевания, основанные на определенных теоретических предпосылках и неизбежно связанные с экспериментированием над больными объектами; с другой – практическая медицина с детальным клиническим изучением больного и осторожным применением испытанных – иногда веками – врачебных средств и врачебного режима. Это – борьба теории и эмпирии, медицины как науки и медицины как искусства. И каждый раз, как научное теоретизирование брало верх и больные испытывали после преувеличенных надежд соответственные разочарования, медицинская мысль возвращалась к более спокойному и верному пути, указанному издавна Гиппократом»