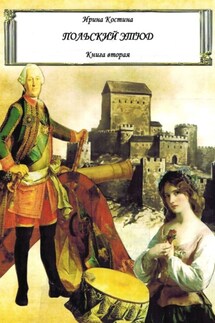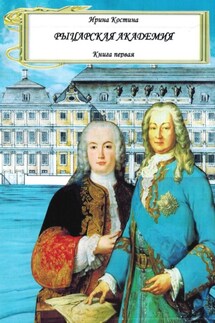Кавалергардский вальс. Книга пятая - страница 28
– Не беспокойся. Проверю всё надлежащим образом, – отрезал Константин.
Александр вдруг широко улыбнулся и обнял брата:
– Знаешь, я страшно рад, что ты со мной! Ты мне очень нужен. Ты молодец, что всё переосмыслил. Не знаю, кого мне благодарить за такую удивительную перемену!
– Варвару Николаевну Репнину, – подсказал ему тот.
Александр неприятно поджал губы и насторожился; разговоры брата об этой девице уже надоели ему до оскомины.
Но Константин, заметив покривившуюся физиономию государя, снисходительно хлопнул Александра по плечу:
– Да полно уже! Не квась мину! Разговоров о моей женитьбе на этой барышне больше не будет. Ты ведь знаешь, она теперь замужем. Тема закрыта.
Через три дня Константин отбыл из Санкт-Петербурга в Смоленск и далее по намеченному для него братом маршруту инспекции пограничных войск.
Император вновь остался в одиночестве, пытаясь внедрить в жизнь идею о благоустройстве империи, в окружении консервативных министров, которых он в душе и ненавидел и боялся одновременно.
Все душевные терзания Александра Павловича, его пылкие стремления к переустройству государства и облегчению доли крепостного крестьянства, вся его изнурительная борьба с Сенатом и настойчивые проекты Конституции, которые он «выжимал» из своих соратников, в конечном итоге не принесли успеха. Единственным плодом этой мучительной деятельности стал документ, вошедший в историю, как «Указ о вольных хлебопашцах».
Этот Указ, подписанный императором 3 марта 1803 года, предусматривал освобождение крепостных крестьян на волю за выкуп с землей целыми селениями или отдельными семействами по обоюдному согласию крестьян и помещиков.
Александру казалось, что он сделал первый шаг к отмене крепостного права, и даже испытывал чувство гордости за эту крохотную победу, с болью выцарапанную им из закостенелого сознания Русского дворянства. Но в действительности, данный Указ послужил для потомков лишь поводом обвинить Александра в лицемерии, так как он совершенно не повлиял на крепостническую систему.
Причиной этого явилось то, что согласно данному Указу, за выкупленную душу надо было уплатить 400 рублей серебром, что было значительной суммой для крестьян, желающих получить свободу. С момента вступления в силу Указа до конца царствования Александра Павловича было заключено всего 160 сделок, что, разумеется, было каплей в море. Таким образом, благодаря стараниям государя за двадцать два года в «вольные хлебопашцы» вышли 47 тысяч крестьян, что составило бы, по грубым математическим расчётам, 0,5% от общего количества всех крепостных Великой Российской империи.
Александру становилось невыносимо скучно. Его соратники, молодые демократы, всё больше разочаровывали несостоятельностью выдвигаемых ими проектов. А, всё, что они сочиняли сообща на заседаниях Негласного комитета, затем неуклонно разбивалось под яростным неприятием дворянства, заседающего в Сенате.
В итоге вся деятельность Негласного комитета была лишь императорской забавой. Со стороны это выглядело так, будто взрослые дяди разрешили мальчикам поиграть в соседней комнате во взрослые игры, но строго следили за тем, чтоб те не сделали бы ничего без их ведома, и вовремя осаживали расшалившихся сорванцов.
В Сенате все терпеливо ждали, когда уже молодой царь наиграется в демократию…
Александр, в самом деле, как маленький ребёнок, тщетно пытающийся снискать внимание взрослых к своим детским проблемам, слонялся от одного к другому – искал поддержки своим планам. Но никто его будто не слышал, не оказывал помощи; каждый преследовал свои цели, не считаясь вовсе с мечтой молодого императора об «общем благе».