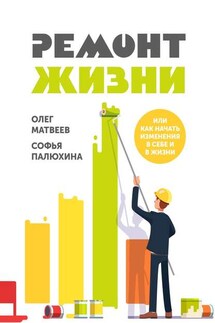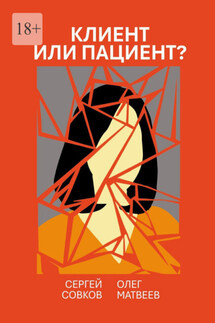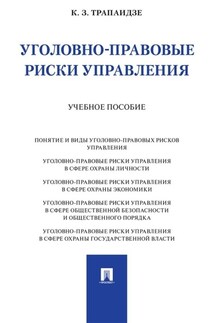Клиент или пациент? Практика распознавания психиатрии в немедицинской работе - страница 16
Чем чаще смена фаз – тем тяжелее адаптация. Потому что человек не может ни работать, ни строить стабильные отношения, ни жить по плану. И вот в таких случаях может подниматься вопрос об инвалидности.
Можно ли с этим как-то жить и работать?
Да, если ритм флуктуаций устойчив, его можно обыгрывать. Есть пациенты, которые точно знают: осенью у них будет приступ. Или весной. Или раз в год – четырёхмесячная депрессия. И они выстраивают под это свою жизнь.
Например, одна пациентка знала, что её депрессии приходят раз в год, стабильно на четыре месяца. Она работала продавцом на рынке. За неделю до приступа увольнялась, ложилась в стационар, отлёживалась, через четыре месяца выходила и снова устраивалась на новую точку. Никому не создавала проблем. Работодатели знали её как отличного работника. Потому что в межприступный период она была в гипомании – энергичная, боевая, продающая.
Такие схемы возможны, если фазы предсказуемы. Но если нет – если начинается мания, потом сразу депрессия, потом снова мания, потом три дня нормы – выстраивать под это что-либо практически невозможно. Это и есть тяжёлое течение, которое практически всегда ведёт к социальной дезадаптации.
Как лечится биполярное расстройство и можно ли от него избавиться?
Самое главное, что нужно понимать – биполярное расстройство не лечится «раз и навсегда». Его не выключить. Его не вырезать, не пересадить, не отработать навсегда. Мы не знаем его причины. Мы не знаем, как оно возникает. Поэтому лечим симптоматически.
Если есть депрессия – назначают антидепрессанты. Если есть возбуждение – его купируют. И вот тут начинается тонкая игра: при биполярной депрессии антидепрессанты могут вызвать манию. Такое бывает. Особенно это касается стимулирующих препаратов – например, милнаципрана или милипрамина. Назначил – и бах, человек уходит в манию. Пациенту это может даже понравиться. Но для врача – это проблема. Потому что это не лечение, это переход в другую фазу.
Эндогенные депрессии тяжёлые. Плохо поддаются лечению. Особенно если сравнивать с реактивными, экзогенными. У них почти нет отклика на плацебо. Если при лёгкой депрессии эффект плацебо может доходить до 40%, то при тяжёлой – меньше 5%.
Лечат тяжёлую депрессию чаще всего амитриптилином. Один из старейших препаратов. Но он «грязный», с массой побочных эффектов. Современные селективные ингибиторы – вроде бы чище, мягче – но менее эффективны при эндогенных состояниях.
А мания?
Вот мания – да. Манию можно оборвать. Причём довольно быстро. И здесь работают как препараты лития, так и нейролептики. Причём дозы, которые применяют в мании, иногда настолько высоки, что здорового человека просто бы «выключило». Но маниакальный пациент – как слон. Глотает и не моргает. Пока не угаснет.
В тяжёлых маниях приходится госпитализировать. Иногда – с фиксацией. Потому что возбуждение настолько выражено, что человек может повредить себя. Бьётся, кидается, срывает одежду, лезет в драку. Да, чаще всего мании благодушные. Весёлые. Щедрые. Люди покупают, дарят, устраивают представления. Но бывают и гневливые формы – и это уже опасно. Таких пациентов фиксируют. Мягко, но твёрдо.
А есть ли что-то, что реально помогает?
Да. Есть. Но это не таблетка. Это понимание.
Когда человек начинает понимать, что с ним происходит, видеть фазность, видеть закономерности, выстраивать под это жизнь – ему становится проще. Он больше не пугается. Он учится не строить планы на фазу, в которой не будет ресурсов. Он выстраивает ритм.