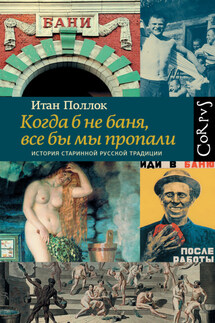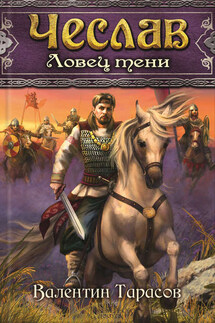Когда б не баня, все бы мы пропали. История старинной русской традиции - страница 11
В “Домострое” – также руководстве для домашних хозяйств – подчеркивались опасности, которые могут подстерегать человека в бане. В разделе о болезнях и их лечении предупреждалось, что нельзя ходить к колдунам, травникам и прочим подозрительным знахарям. Там же говорилось: “Не должно быть никакого общения у христиан с иудеями… Если… кто моется с ними в бане, или иначе как-то общается с ними, если из причта он – из церкви его изгнать”. Мирянину же грозило отлучение от церкви на девятнадцать лет[45]. В начале нового времени баня мыслилась как пограничное – на границе жизни и смерти – пространство, где происходили разнополые совокупления и завязывались однополые узы, вершились торжественные обрядовые омовения и творилась ворожба. Это было место, где определенные действия сулили власть или удачу, но с той оговоркой, что если те же действия совершить в неправильное время или не с тем человеком, то они же нанесут вред или даже погибель.
В Смутное время – пятнадцатилетний период политического кризиса между окончанием правления Рюриковичей в 1598 году и утверждением во власти династии Романовых в 1613 году – недоброжелатели косо смотрели на обычай самозванца Лжедмитрия ходить вместе с женой в баню в то самое время, когда ему полагалось находиться в церкви вместе с князьями и боярами: может быть, он колдун? Но, странным образом, в других источниках высказывались подозрения в адрес Лжедмитрия из-за того, что он не ходил в баню во время своей свадебной церемонии[46]. Лжедмитрию – вероятно, чужеземцу – не удалось успешно выдержать двойное испытание баней, которая связывалась в сознании русских людей и с чистотой, и со скверной, играя важную роль одновременно святого места и места святотатства.
Связывать баню с колдовством, ворожбой и опасностью продолжали до конца столетия. В конце XVII века князя Василия Голицына обвинили в том, что “он держал в своей бане особого колдуна, чтобы с помощью любовных чар привлечь любовь регентши царевны Софьи”, которую он поддерживал, когда она попыталась оспорить права своего брата Петра на престол[47]. На первый взгляд, эти примеры подкрепляют идею о том, что в представлениях о бане сохранялись воззрения, существовавшие независимо от христианской веры или параллельно ей. Однако в православном вероучении соединились идеи о том, что баня способна и осквернять и очищать моющихся в ней. Православная традиция чаще всего соглашалась с тем, что баня таит опасности. Представление о связи бани со злом восходит к различным текстам об истории Церкви, которые вместе с церковными учениями часто попадали в русское православие. Из-за того, что публичные бани привычно ассоциировались с пороком, развратом и проституцией, средневековые церковные авторитеты, где бы они ни жили, всячески старались регулировать деятельность, происходившую в бане. Еще в VI веке Юстиниан, по словам одного исследователя, “установил строгие наказания за неподобающее поведение в банях, а осуждение совместного мытья как повода для греха часто встречается в записях заседаний советов и синодов, а также в святоотеческой и прочей христианской литературе”