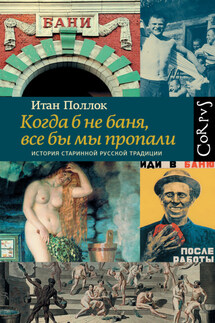Когда б не баня, все бы мы пропали. История старинной русской традиции - страница 7
Если оставить в стороне краткие упоминания о мытье у Геродота и Ибн Русты, то история русской бани обычно начинается с первых местных письменных свидетельств о ранней эпохе существования Киевской Руси – древнего государства, к которому восходит вся позднейшая государственность России. В “Повести временных лет” (или “Первоначальной летописи”) – летописном своде документов, относящихся к истории Руси с XII века, – неоднократно упоминается мытье, что подкрепляет утверждения о том, что баня всегда была неотделима от представлений о Руси и о русских.
В наиболее часто цитируемом месте из “Повести временных лет” говорится об апостоле Андрее Первозванном, чье легендарное “хождение” в славянские земли послужило поводом для сакрализации христианских истоков Киевского княжества. Это предание чрезвычайно важно для восточнославянского самосознания: позднее апостол Андрей сделался святым покровителем и Украины, и России. В описании путешествия Андрея, сохранившемся в “Повести”, уделено значительное внимание местным баням, которые увидел апостол и которые значительно отличались от бань, распространенных в римском мире.
И пришел [апостол Андрей] к славянам, где нынче стоит Новгород, и увидел живущих там людей – каков их обычай и как моются и хлещутся, и удивился им. И отправился в страну варягов, и пришел в Рим, и поведал о том, как учил и что видел, и рассказал: “Удивительное видел я в Славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и разожгут их докрасна, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что еле вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это всякий день, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то совершают омовенье себе, а не мученье”[22].
Авторами “Повести временных лет” были, скорее всего, киевские монахи. Привлекая внимание к бане и связывая ее с именем апостола Андрея, они, возможно, надеялись высветить предмет гордости местных жителей. Но если так, то не странно ли, что они подчеркивали изумление Андрея? Ведь он уподоблял банные обычаи славян “мученью”. Зачем же они вообще включили в летопись этот эпизод?
Когда писалась “Повесть”, Киевское государство было лишь одним из многих княжеств, соперничавших между собой за господство над славянскими землями. Составители летописи, предположительно желавшие подчеркнуть важную роль Киева, быть может, решили нарочито насмешливо изобразить языческие, варварские обычаи своих соперников-северян из Новгорода, которые мылись, подобно норвежцам, в тесных срубах, а не в просторных общественных зданиях, служивших банями у цивилизованных римлян в пору “хождений” апостола Андрея и у их собственных современников византийцев. Чтобы обозначить этот контраст, летописцы несколькими строками выше рассказали о том, что, когда Андрей пришел в земли на берегах Днепра, где в будущем предстояло возникнуть Киеву, его помыслы не были заняты местными банными обычаями, а устремлялись в священные выси. Он будто бы произнес следующие слова: “Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей”, после чего благословил горы, поставил там крест и помолился Богу[23]. В летописи эти эпизоды примыкали друг к другу, отчего создавалось впечатление, будто жители Новгорода оказались куда менее достойны апостольского благословения, чем жители днепровских холмов, на которых предстояло в будущем воздвигнуться Киеву. Авторы летописи словно желали сказать: Киев – город церквей, а Новгород – город бань.