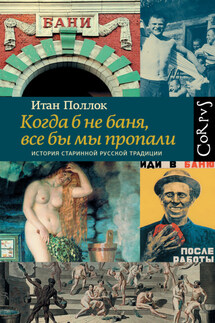Когда б не баня, все бы мы пропали. История старинной русской традиции - страница 8
В Древней Руси XI века существовало нечто похожее на баню, но едва ли оно могло казаться предметом гордости киевским летописцам. Напротив, они выставили это явление как незавидный обычай, восходящий к дохристианским временам. Опираясь на это место из “Повести временных лет”, один современный историк заключил, что жители Киева воспринимали банные традиции русского Севера как “чуждые и нелепые”, и что упоминание бань в “Повести” – “один из древнейших русских этнографических анекдотов”[24]. Лишь потому, что “Банный веник и царя старше”, как гласит одна поговорка, не стоит думать, что баня была предметом безусловной гордости[25].
Зато другие обращались к этому же эпизоду летописи, чтобы подчеркнуть значимость бани для подлинного русского самосознания, и банные обычаи казались тем важнее, что чужаки вроде апостола Андрея не могли их понять. В таком прочтении христианство выглядело новым, привозным элементом, а баня представала частью уходящей вглубь веков, более подлинной русской истории. Вот что писал один исследователь:
Вся Русь в изображении апостола Андрея (в изображении крупномасштабном), представлена двумя главными учреждениями – церковные храмы, которые в будущем покроют эту страну, и бани, которые существуют как бы изначально. Это и есть две культуры. Верх представлен церковной, а низ – народной культурой и народным бытом. Наверху – святость, внизу – юмор. Кажется, в этом небольшом летописном тексте, в одном абзаце, заснята вся Русь в ее определяющих чертах – дух и плоть Руси, и фантастический характер народа, который сулит в будущем еще большее удивление.[26]
Это наводит на мысль, что в русской культуре христианство воспринималось как нечто навязанное сверху и извне, а баня продолжала существовать параллельно христианскому миру. В таком толковании баня – своего рода альтернативное место культа, пережиток языческой, дохристианской эпохи[27]. Когда все остальные шли в церковь на службу, колдуны шли в баню заниматься ворожбой. Отсюда следовало, что всякого, кто не ходил мыться в обычное время, могли принять за колдуна[28].
Представление о том, что баня была символом нехристианских верований, подкрепляет другая история из “Повести временных лет”. Боярин Янь пришел на Белоозеро, собирая дань для киевского князя. А тамошние волхвы, “мороча людей”, чинили всякие злодейства и мешали ему исполнить княжеское поручение. Потом волхвов захватили, и во время допроса Янь вступил с ними в спор о сотворении человека. Сам Янь утверждал свою веру в библейской истории о сотворении Богом Адама и Евы. Кудесники же отвечали, что сами знают, как все было: “Бог мылся в бане и вспотел, отерся ветошкой и бросил ее с небес на землю. И заспорил сатана с Богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил. Вот почему, если умрет человек, – в землю идет тело, а душа к Богу”[29]. Итак, баня существовала в момент сотворения человека. А православие – нет. Во всяком случае, именно это, согласно летописи, утверждали средневековые кудесники.
Несмотря на это свидетельство, противопоставление бани православию мешает понять, насколько тесно Церковь и баня были переплетены в культурном отношении. Христианская вера не противоречила напрямую “народной культуре” и “народному быту”, символом которых были походы в баню[30]. Православие пустило глубокие корни в славянскую культуру, вобрало в себя и связало в единое целое ранее существовавшие верования. В других местах “Повести временных лет” баня фигурирует как вполне патриотичное, нисколько не враждебное христианству бытовое явление. В середине X века, как рассказывает летопись, древляне (одно из восточнославянских племен) убили киевского князя Игоря с дружиной, когда тот собирал дань. Затем древляне пришли в Киев, чтобы уговорить вдову Игоря Ольгу выйти замуж за их князя. Княгиня Ольга решила отомстить за гибель мужа. Она велела передать древлянам, что “киевские люди” позволят ей пойти за их князя лишь в том случае, если они подступятся к ней “с великой честью”. Тогда древляне прислали в Киев своих “лучших мужей”, а Ольга “приказала приготовить баню, говоря им так: «Вымывшись, придите ко мне»” (возможно, так велели тогдашние киевские обряды сватовства). “И разожгли баню, и вошли в нее древляне и стали мыться; и [люди Ольги] заперли за ними баню, и повелела Ольга зажечь ее от двери, и сгорели все”