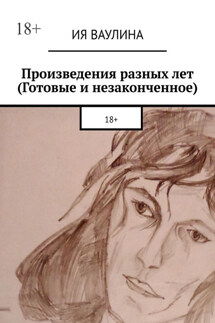Комментарий к «Критике чистого разума» Иммануила Канта - страница 13
Я не могу умолчать о более личном отношении к этой задаче. Как известно, мировая философская литература насчитывает мало произведений, которые по характеру своей классичности могли бы сравниться с «Критикой чистого разума». Но классичность имеет свой источник в индивидуальности. Эта книга – учение и исповедание гения. Почти в каждом разделе, на каждой странице говорит человек, который хочет учить и обращать человечество; основательность и осторожность его исследования, надеюсь, не противоречат этому самосознанию своей задачи. Если хочешь объяснить такую книгу, недостаточно быть знакомым с её взглядами через буквальный смысл понятий и их связей; нужно, скорее, как бы проникнуть в личную контрапунктику этих мыслей и овладеть ею. Но самое сокровенное в этих мотивах и их разработке можно понять, только если сам хочешь приобщиться к его духу и утвердиться в нём. Кто не принимает методические установления Канта об основных направлениях человеческой культуры, то есть его трансцендентальный метод, кто не признаёт его, как сказал Шиллер, «непоколебимым основанием» культуры, – тот должен отказаться от труда истолкователя.
Поэтому в это время, когда поток изданий сочинений Канта, книг и статей, трактующих и оценивающих его, достиг своего пика, для меня было и радостью, и честью вновь посвятить свою работу этому вечному основополагающему труду. И как раз условие краткости могло бы стать программно важным моментом.
У многих, кто со свежим умом приступает к изучению философии, возможно, есть духовная и душевная предрасположенность к Канту, но разрыв с литературным стилем, к которому они привыкли, затрудняет сосредоточение на этой манере письма и требуемой для неё дисциплины чтения. Как учитель критической философии, я должен был откликнуться на этот зов. Пусть же юный странник доверчиво вручит себя старому проводнику. В высокогорье проводник должен быть страстным любителем своего ландшафта.
Предметные соображения объективности при этом не были упущены из виду, равно как и соображения сдержанной критики. Но, конечно, здесь руководящей является мысль, что в этой книге властвует единый дух, а отнюдь не дуалистические колебания и поиски окольных путей, уводящих от великого ориентира. Подобные слабости эклектики – удел умов меньшего калибра. Поэтому я стремился, насколько возможно, разъяснить отдельные места, чтобы не оставлять читателя на произвол судьбы, а, напротив, побудить его к точности чтения и вдумчивости. Но в каждом подлинном произведении искусства частное можно понять только исходя из целого и из тех развёртываний, в которых оно снова и снова предстаёт в новом виде. Поэтому я должен был стремиться сделать ход изложения прозрачным в его основных этапах. И, продолжая сравнение с прогулкой, нужно было позаботиться о том, чтобы взгляд на цель пути и перспектива больших исторических магистралей, с которыми этот путь соприкасается и местами переплетается, оставались свободными и ясными. Таким образом, ведущие мысли должны были быть сжаты, а поучительные мотивы, повторяющиеся в многообразных вариациях, – вновь и вновь подчёркиваться, даже если при этом нужно было учитывать новизну их видоизменений.
При этом вновь стало необходимым ограничение. Нужно пояснять «Критику чистого разума», а не развивать систему Канта. Лишь в той мере, в какой это полезно для понимания одной этой книги, следует обращать взгляд на другие произведения Канта, и только в виде указаний, а не доказательств. Читатель должен быть ориентирован, но не отвлекаем. Поэтому я зашёл так далеко в ограничении, что избегал цитат из других работ Канта. Тем охотнее я мог отказаться от обращения к другим авторам, писавшим о Канте, и точно так же не ссылался на свои собственные книги.