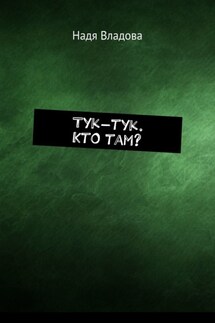Культурология. Дайджест №1 / 2014 - страница 29
В своей работе «Бытие и время»202 Хайдеггер определил желание интерпретировать речь как попытку найти для нее «место» в онтологическом бытии языка: «Речь есть значимое членение расположенной понятности в бытии-в-мире. Речь есть экзистенциально язык». В свою очередь, в «Преодолении метафизики логическим анализом языка»203 Карнап изучает язык, правила образования предложения, рассматривая значение слова через определенные критерии истинности, верификации и т.д. Интерпретируя речь, можно вписать язык в графическую систему знаков, в результате текст определяется как графическая система символов языка какого-либо сообщества, определяющаяся собственной смысловой нагрузкой и логикой межтекстовых связей. Последние, в свою очередь, и являются основой интертекстуальных отношений.
На сегодняшний день нельзя говорить об обязательной линейности текста, так как, придерживаясь литературных норм и традиций, автор часто оставляет за читателем право самому достраивать логику повествования, изобретая для этого новые формы (Пруст, Малларме). И если работы Хайдеггера посвящены изучению смысла интерпретации речи и ее месту в бытии, а Карнапа – исследованию смысла с помощью языка, то сформировавшаяся в начале нового тысячелетия текстовая система заставила авторов рассматривать смысл и интерпретацию на интертекстуальном уровне204, породив, таким образом, текстовое толкование произведения – интертекст. За текстом отныне стоит не язык, а комплекс других текстов. А.Н. Трепачко говорит о таком межтекстовом взаимодействии как о сознательном художественном приеме и как о средстве конструирования смысла на основе претекста205.
Умберто Эко называет подобную художественную форму эпистемологической метафорой206, определяя ее как способ структурирования художественных форм, с помощью которого культура (иногда наука) той или иной эпохи воспринимает реальность. Однако понимание любой реальности отходит в область герменевтики. Следуя этой цепочкой понятий от бытия, далее к «месту» языка и речи в нем, а затем и к интертексту, логично обратиться к предмету изучения герменевтики как общей теории понимания, а именно к герменевтическим феноменам, рассматривающимся как основные состояния бытия человека. В контексте работ М. Хайдеггера о герменевтичности бытия герменевтические феномены могут быть рассмотрены создателями любого текста не как собственно контекст для их творчества, а как фундаментальные основания бытия, вписывающие каждый созданный текст в рамки общего мирового интертекста.
Ф. Шлейермахер207, заложивший основы герменевтики, выделял в тексте отдельно его содержание, т.е. то, что в него вписывается, и далее противопоставлял ему выражение, т.е. то, как именно событие вписывается. Другими словами, форму и содержание. Главным при таком анализе философ считал толкование не самого текста, а его автора, мыслящего индивида, создавшего тот или иной текст. Любой индивид существует в едином историческом и культурном пространстве; чтобы его понять, нужно отыскать ценностные и социально-исторические ориентиры, повлиявшие на формирование именно этого индивида – создателя конкретного текста. А значит – найти основу его