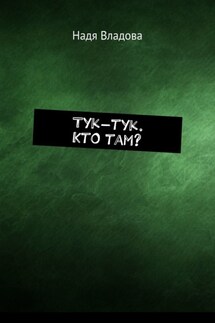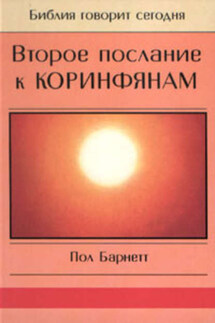Культурология. Дайджест №1 / 2014 - страница 26
Применительно к искусству принято подчеркивать недопустимость какого-либо вмешательства в него с посторонними художественным задачам и целям требованиями утилитарного, социального либо даже этического порядка. Размышляя о «магическом реализме», Фаворский подчеркивает другой аспект той же самой проблемы – проблемы «эстетической изолированности» художественного предмета и пространства. Само художество не вправе посягать на сформированную длительным опытом искусства «зрительскую плоскость». Не должно стремиться влиять на нас прямо и непосредственно, здесь обязателен момент эстетической отстраненности (или, как говорил Виктор Шкловский, «остраненности») от пространства изображения. По мысли Павла Флоренского, «художественным образам приличествует наибольшая степень художественной воплощенности, конкретности, жизненной правдивости, но мудрый художник наибольшие усилия приложит именно к тому, чтобы, переступив грани символа, эти образы не соскочили с пьедестала эстетической изолированности и не вмешались в жизнь как однородные с нею части ее»190. Фаворский-художник пытается воссоздать целое мира там, где человек натыкается лишь на «акосмию» и хаос зрительных ощущений. Его функция в значительной мере оказывается космогонической, направленной на повторение космотворения. В этом смысле философско-художественная позиция Фаворского весьма созвучна тезису Г.-Г. Гадамера: «Неважно, работает ли скульптор или художник в предметной или непредметной манере. Важно одно – встречает ли нас в них упорядочивающая духовная энергия. И если то, что изображено в произведении поднимается до новой оформленной определенности, до нового крошечного космоса, до новой цельности схваченного, объединенного и упорядоченного бытия, то это искусство… Художественное произведение стоит посреди распадающегося мира привычных и близких нам вещей как залог порядка и, может быть, все силы сбережения и поддержания, несущие на себе человеческую культуру, имеют своим основанием то, что архетипически предстает в работе художника, всегда снова упорядочивающего то, что раз за разом распадается»191.
Параллельное рассмотрение подходов Флоренского и Фаворского позволяет говорить о значительной близости их теоретико-художественных взглядов. Учитывая их довольно продолжительное общение, их активную совместную работу во Вхутемасе по утверждению общей позиции в качестве исследовательской и образовательной, речь может вестись и о чем‐то большем. Можно говорить о формировании общей исследовательской и художественно-образовательной платформы, связанной с анализом пространственной формы художественно-изобразительного произведения. Единой теоретико-художественной школе, хотя ее контуры вполне намечаемы, не суждено было сбыться; время, отпущенное 20-ми годами на формирование самостоятельных теоретических направлений, стремительно убывало. К тому же каждый из наших авторов в середине 1920‐х был не только зрелым человеком, но и самостоятельно сложившимся исследователем. В теоретической разработке проблем художественного пространства каждый сохранял, что называется, свое лицо. Если П.А. Флоренского скорее интересовало то, что может быть названо семиотическими аспектами изучения пространственных форм и способов художественного пространствопостроения, то В.А. Фаворский довольно продолжительное время (и в 1920‐е годы, и несколько позже) находился под влиянием немецкой школы теоретического искусствознания А. Гильдебранда. Его теория «изобразительной плоскости» отличалась и самостоятельностью, и глубиной философских обобщений. О единой теоретической школе в строгом смысле этого слова говорить не приходится. Но было общее направление исследовательских поисков, схожесть в оценке их возможностей и перспектив. Предпринятые в 1920‐е годы В. Фаворским и П. Флоренским, главным образом «в стенах» Вхутемаса, исследования принципов пространственной организации искусства не имели аналогов, отличались новаторством и основательностью подходов. Но параллельно и независимо от них в ГАХНе